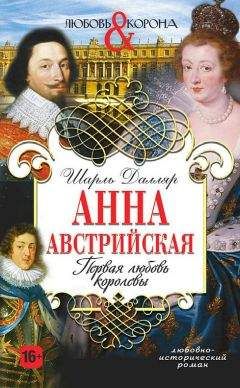Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Кажется, Гёте высказывает в пятом акте одну из самых заветных своих мыслей: грязными средствами, насилием и разрушением нельзя ничего построить, тем более сделать всех счастливыми. Это и сегодня звучит как своевременное напоминание, как грозное предостережение. Уже тогда великий мастер понимал, что, говоря словами Н. А. Бердяева, «утопии страшны тем, что они сбываются», что нельзя железной рукой загонять человечество в «светлое будущее».
Фауст допустил страшную ошибку. Однако величие его души проявляется именно в том, что он ощущает ужасный груз собственной вины: «О, если бы, с природой наравне, // Быть человеком, человеком мне! // Таким я был, но преступил устав, // Анафеме себя и жизнь предав». Возможно, поэтому и приходят к нему четыре седые женщины: Нехватка, Вина, Нужда, Забота. Они словно бы символизируют бессонную совесть Фауста, грызущую его изнутри, и тот духовный тупик, в котором он оказался. Наконец, Забота ослепляет Фауста. Что это означает? Согласно Библии, утрата внешнего зрения символизирует открытие зрения внутреннего, постижение истины (достаточно вспомнить историю Самсона и соответствующую интерпретацию его слепоты в «Самсоне-борце» Дж. Милтона, равно как и интерпретацию английским поэтом собственной слепоты). Быть может, Гёте хочет сказать, что Фауст наконец-то прозрел? Или все-таки то, что он слеп, как раньше, и истина ускользает от него? Текст настолько сложен, что не дает возможности однозначной интерпретации. Горько-ироническая деталь как будто бы указывает на второе прочтение: слепой Фауст слышит стук лопат и думает, что это строят по его приказу дамбу, копают траншеи, а на самом деле лемуры по приказу Мефистофеля роют ему могилу. Фауст торопит Мефистофеля, главного распорядителя работ: «Усилий не жалей!» Тот же вполголоса говорит с циничной усмешкой: «На этот раз, насколько разумею, // Тебе могилу роют – не траншею». Это можно понять как полное поражение Фауста, который ни на шаг не продвинулся в строительстве своего прекрасного мира, как крушение всех надежд, как указание на вечную духовную слепоту человека. С другой стороны, ослепший Фауст чувствует, что еще полон жизненных сил и порывов: «Вокруг меня сгустились ночи тени, // Но свет внутри меня ведь не погас…» Герой, кажется, все-таки понял в этой жизни нечто самое важное – то, что цель ее – в бесконечном стремлении к лучшему миру, в бесконечной духовной борьбе, в напряжении нравственного чувства, в непрерывном усилии ради будущего. Об этом и говорит он в своем последнем монологе – прошедший после омоложения еще полный круг жизни, семьдесят лет (согласно пояснению Гёте, данному Эккерману, Фаусту в конце произведения сто лет):
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И, это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.
Без сомнения, этот финальный монолог Фауста – самый знаменитый в произведении, и разным русским переводчикам «Фауста» в различной степени удалось передать его трагизм, философскую глубину и афористичность. Не менее сильно это получилось в переводе Н. А. Холодковского, особенно «конечный вывод мудрости земной», к которому приходит гётевский герой:
Я предан этой мысли. Жизни годы
Прошли недаром. Ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой.
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ.
Тогда сказал бы я: «Мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!»
И не смело б веков теченье,
Следа, оставленного мной.
В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг теперь вкушаю свой.
Итак, Фауст понял, что предназначение человека – трудиться во имя счастья других людей, что смысл жизни – оставить добрый след на земле, что вся жизнь – бесконечное движение, неустанное стремление к высшему мгновению. Последнее же никогда не может наступить в границах земного бытия человеческого: даже за мгновение до смерти подлинный человек стремится вперед, и лучшее мгновение – всегда в будущем. И хотя герой формально произносит роковые слова – «Остановись, мгновенье!», Мефистофель не вправе торжествовать, ибо сказано это в контексте будущего времени.
Последние сцены «Фауста» – «Положение во гроб» и «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня» – целиком выдержаны в духе евангельской, а также постбиблейской апокрифической символики (например, спор архангела Гавриила с сатаной за душу Моисея в позднеиудейском апокрифе «Вознесение Моисея»). Перед нами на этот раз настоящая смерть и победа над ней, ибо эта смерть открывает ворота в жизнь вечную. За душу Фауста спорят силы ада и силы Неба. Слева разверзается страшная пасть ада, и Мефистофель деловито дает указание чертям: «…Чуть выскользнет душа из-под прикрытья, // Ее хватайте разом на лету. // Ведь гений жизни рвется унестись // Из ветхого былого дома ввысь». Однако справа (практически у всех народов правая сторона связывается с правдой и праведностью) и сверху вспыхивает лучезарный свет: то движется Небесное воинство: «Ангельской ратью // Двинемся, братья, // В тихий полет, // Грешных прощая, // Прах оживляя, // Кроткой, радушной, // Легкой, воздушной // Стаей слетая // С горних высот». На адскую нечисть сыплются розы (роза – символ Девы Марии), пугая их больше, чем стрелы. Невероятной мощью, динамичностью и одновременно легкостью и кротостью веет от гётевского стиха в хорах ангелов: «Розы румяные, // Благоуханные, // Падая, радуя //
Нежной прохладою // Животворящею, // Вейте над спящею // Тихо душой, // Райских селений // Вечный покой // Сейте весенней // Алой копной. //…Полные пламени // Розы, вы – знаменья // Благости любящей, // Силы, голубящей // Кроткий Завет. // Все перевесьте // Радостной вестью! // Ангелов шествие // Сеет ваш свет».
Мефистофель и его подручные спасаются бегством от страшных для них небесных роз, и вот уже ангелы взмывают ввысь, неся бессмертную сущность Фауста: «Спасен высокий дух от зла // Произволеньем Божьим: // Чья жизнь в стремлениях прошла, // Того спасти мы можем…» Фауст заслужил победу и спасение потому, что не остановился в своих духовных поисках, что стремился к добру и свету. Однако одного стремления мало, ибо на этом пути были и страшные ошибки, и ужасная вина. Вот почему ангелы поют: «А за кого любви самой // Ходатайство не стынет, // Тот будет ангелов семьей // Радушно в небо принят». По поводу этих строк сам Гёте пояснял Эккерману: «В этих стихах дан ключ к спасению Фауста. В самом Фаусте это – неустанная до конца жизни деятельность, которая становится все выше и чище, и, сверх того, – это приходящая ему свыше на помощь вечная любовь» (6 июня 1831 г.). «Ходатайство любви» – ходатайство Гретхен, появляющейся в финале как «одна из кающихся грешниц, прежде называвшаяся Гретхен». Она по-прежнему любит Фауста, она счастлива, что он теперь безраздельно с ней: «Оплот мой правый, // В сиянье славы, // Склони свой лик над счастием моим. // Давно любимый, // Невозвратимый, // Вернулся, горем больше не томим». Великая всепрощающая любовь Гретхен открывает Фаусту путь на небо. Она осмеливается обратиться к самой Mater Gloriosa – Матери Божьей в Славе Небесной, к Деве Марии: «Позволь мне быть его вожатой, // Его слепит безмерный свет» (здесь очевидна аллюзия на «Божественную Комедию» Данте: Гретхен ассоциируется с Беатриче, которая вводит своего возлюбленного в слепящий свет Эмпирея). В ответ Гретхен слышит простое и величественное: «Направься в высший круг. Объятый // Догадкой, двинется он вслед». Итак, неустанным трудом собственной души, любовью и великой милостью Божьей спасен Фауст, и не просто спасен: ему открыты врата в высшие небесные сферы. Разрешен и спор о человеке, послуживший завязкой произведения: в этом споре победил Господь, а вместе с Ним – человек, подтвердивший свое высокое достоинство и великое предназначение.
Быть может, самые таинственные строки «Фауста» звучат в самом финале, в партии Мистического хора (Chorus mysticus): «Все быстротечное – // Символ, сравненье. // Цель бесконечная // Здесь в достиженье. // Здесь – заповеданность // Истины всей. // Вечная Женственность // Тянет нас к ней». Смысл этих слов трудно (или вообще невозможно) объяснить сугубо рационально. В них поэт приблизился к выражению некоей глубинной тайны жизни, ее вечной метаморфозы и ее духовно-этического смысла, одинаково невозможных без Вечной Женственности (Вечно-Женственного, или Вечно-Женского) – без Божьего Присутствия в мире, без великой, живящей мир и спасающей душу Любви, которую воплощают раскаявшиеся грешницы (Мария Магдалина, Жена-самаритянка, Мария Египетская, Гретхен) и Матерь Божия. Не случайно слова о Вечной Женственности вспомнит Дж. Джойс в финале своего «Улисса» – как формулу абсолютного приятия жизни, такой сложной, порой отвратительной, но вопреки всему – такой прекрасной. И еще, кажется, в этих финальных строках – ключ к загадке самого «Фауста», к смыслу которого мы только бесконечно приближаемся, но ухватить его целиком не можем, он остается недостижимым. Когда-то У. Эко, автор романа «Имя розы» и ученый-семиотик, следующим образом определил показатель степени художественности того или иного текста: его способность порождать различные прочтения, не исчерпываясь до конца. Если верить этой формуле, то «Фауст» Гёте – один из самых художественных текстов во всей мировой литературе.