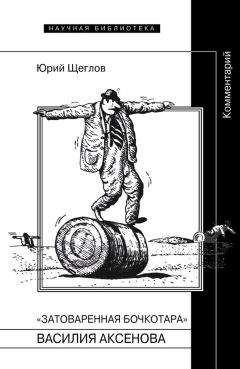Игорь Смирнов - Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
Виновата модернизация. Диаметрально противоположную Гоббсовой модель естественного состояния выстроил Жан-Жак Руссо в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства среди людей» (1755). Так называемый «Второй дискурс» приписывает отприродному человеку абсолютную моральную нейтральность (он не зол, потому что не имеет понятия о добре). От этой нулевой точки Руссо отсчитывает нарастание пороков и несправедливостей в человеческом мире, которое он связывает с рождением социальности и культуры. Член общества отчужден от своей первозданности, от се-бя, становясь собственником; его интерес в учреждаемой им искусственной среде входит в конфликт с интересами прочих владельцев имущества, так что его захватывает темное желание причинить смертный вред Другому. Руссо переворачивает мифы творения, а заодно и схему Гоббса, требуя возврата туда, где еще не намечены дифференциации, следующие из демиургического актa. Универсум, который не дан ab origine, а создан, моделируется во «Втором дискурсе» с оглядкой на гностическую доктрину, обличавшую на заре христианства злого демиурга и изготовленную им реальность. У Руссо влечет за собой преступность то, что возводится в норму, — сам социальный порядок.
Как ни далек, на первый взгляд, Эмиль Дюркгейм от категорической идеализации первобытности, он, как и Руссо, опричинивает преступность (взятую им очень широко) поступательным движением истории. Чем дальше заходит производственная и функциональная специализация социальных сегментов, пишет Дюркгейм в «Разделении общественного труда» (1893), тем сильнее они нуждаются в кооперации, но, с другой стороны, тем больше и опасность, что они впадут в «аномию», в замыкание на себе, расстраивающее коллективную солидарность. Социопатия и дезинтеграция общества неотъемлемы от его эволюции. Отклонения от нормы провоцируются самой развивающейся социальностью — эта диалектика (как и всякая иная) предохраняла себя от критики извне тем, что держала круговую оборону: конструктивные и деструктивные силы в обществе слиты в единство, и tertium non datur. Трудноуязвимым идеям Дюркгейма была обеспечена долгая жизнь. Но все же «аномия» — еще не преступление, лишь его предпосылка. Более того, чем радикальнее отказ от интеграции в обществе (допустим, в случаях монашеского подвига, романтического удаления от светской суеты на лоно природы или фланерства), тем менее он криминогенен. Влиятельность была гарантирована представлению об «аномии» еще и тем, что оно переводило в социологический план затверженный философией и освященный ее высоким статусом среди остальных дискурсов обвинительный приговор по адресу себялюбия. Кант обрушивался в «Критике практического разума» (1788) на «негативную свободу», автономизирующую субъекта и опасную для общественного блага, каковое не может обойтись без «дисциплинирования разума», без самоконтроля каждого человека в отдельности, единящего всех. Хотя для Гегеля нравственный мир огосударствлен, вовсе не выражая собой решения, принимаемые индивидуально, «Основные линии философии права» (1821), не слишком удаляясь от Канта, определяют преступление как отпадение от всеобщности существования (убийство разлаживает самое жизнь), как существование, противоположное себе.
Традиция Дюркгейма разветвилась на несколько линий. Одной из них было привнесение психологизма в беспримесно социологический подступ к преступности. Уже Дюркгейм указывал на то, что дифференциация труда размыкает путь индивидуализму. В «Бегстве от свободы» (1941) Эрих Фромм подхватывает эту посылку, заключая из нее, что индивид, изолированный от социума, оказывается в ненадежной ситуации и должен испытывать беспомощность. Выход из этого, внушающего тревогу, положения — в «интериоризации авторитарности», в мазохистском отречении субъекта от себя, в саморазрушении и в садистской погоне за доминантностью, разрушительной для объекта. Носитель садомазохистского комплекса вдвойне преступен — по отношению как к себе, так и к Другому. В качестве массового явления этот психотип вызывает к жизни тоталитарные режимы, в которые упирается процесс модернизации общества, раскрепощения индивидуального начала.
Отвечая на тот же вопрос, который занимал Фромма: «Каковы истоки тоталитаризма?» — Хельмут Плесснер («Эмансипация власти», 1962) придал дюркгеймовской «аномии» антропологический смысл. Всякий номос чреват «аномией», потому что человек — незавершенное (историческое) существо, не знающее, где лежит граница его нужд. Власть закона, покончившая с кулачным правом и сгустившаяся в государстве, теряет в XIX в. свою непреложность — этатизм перестает быть единственным подателем и мерилом легитимности. Тоталитаризм — реакция на расшатывание государственности, «власть-для-себя», освобождающаяся от какой бы то ни было конкуренции (например, с церковью). Поскольку «аномия» — понятие более широкое, чем «преступность», постольку в своих превращениях, одно из которых произошло в исторической антропологии Плесснера, оно предрасположено к тому, чтобы вовсе лишиться экспланоторно-криминологической силы. По Плесснеру выходит, что любой шаг в будущее, который предпринимает homo historicus, снимает разницу между законом и беззаконием и ведет в конце концов к катастрофическому совпадению номоса и «аномии», каковое представляет собой «власть-для-себя».
Задолго до Плесснера релятивизация преступности покорила научное воображение Питирима Сорокина («Преступление и кара, подвиг и награда», 1914). Взамен коллективной солидарности, фундаментально важной для Дюркгейма, Сорокин настаивает на конфликтности группового сожительства, вытекающей из того, что оно не статично. То, что недозволено с точки зрения одной из партий, участвующих в столкновении интересов, отнюдь не выглядит преступлением для другой. Раз преступления как такового не бывает (есть только «инакомыслие»), неспецифичным становится и наказание — оно не более чем воссоздает акт, условно полагаемый недопустимым. Кара (resp. поощрение) преследует цель автоматизировать поведение, заключить его в «шаблоны», то есть ввести коллектив в состояние «механической солидарности», которая, по Дюркгейму, продуцирует «аномию» (в отличие от «органической солидарности», вызываемой непосредственной связью индивида с обществом). Дюркгеймовский генератор преступности перенастраивается Сорокиным на производство нормы. Несмотря на принципиальную разноголосицу двух социологий, Сорокин сближается с Дюркгеймом в том, что концептуализует преступление как величину, зависимую от социодинамики.
Чтобы подытожить разговор о судьбах «аномии» в позднейших учениях, стоит отметить, что она не только психологизировалась и антропологизировалась, получая дополнительное измерение, но и переживала сужение и конкретизацию, как, например, в Чикагской социологической школе, начавшей складываться после публикации в 1915 г. статьи Эзры Роберта Парка о криминогенности в городском пространстве («The City: Suggestions for the Investigation of Human Behaviour in the City Environment»). Поведение человека в городе не контролируется столь же строго, как в деревне, что выливается в образование самостоятельных групп населения — обособленных субкультур, предопределенных к девиантности. Будучи историческим новшеством, город как бы продолжает пространственно явленную им дифференциацию во времени, так что в нем возникают районы, жителей которых не охватывает ассимиляция. В классическом исследовании, посвященном итальянскому кварталу в Бостоне («Street Corner Society. The Social Struc-ture of an Italian Slum», 1943), Уильям Фут Уайт проследил за тем, как формируются и бытуют молодeжные группы, промышляющие рэкетом. По своей структуре gang — в описании Уайта — ничем не отличается от прочих peer-groups (как и всякий малый коллектив, сообщество юных преступников сплачивается — посредством дискуссий — в коммуникативное единство, организуется иерархически, ожидает от лидеров, что те будут заботиться о поддержании равновесия в группе, и т. д.). Вина за преступность перемещается с социального тела самого по себе на обстоятельства, в которые оно попадает (неспроста Уайт подчеркивает, что многие из гангстеров, повзрослев, уходят в легальный бизнес). Но в чем тогда собственное социосодержание криминогенности? Если она плод социокультурного развития, то она неизбежна в той же степени, в какой историзм составляет для человека его modus vivendi. И далее: если преступление необходимо, то оно отнимает у нормы конституирующее ее долженствование. Обязательное и необязательное обмениваются позициями — вот противоречие, подтaчивающее и дюркгеймовскую традицию, и соперничающую с ней социологию Сорокина.
Разрешенный разбой. Из только что сказанного будет теперь легко перейти к тому привнесению преступности в норму, у истоков которого стоят Джон Локк (во «Втором трактате о правлении» (1689) он вдвинул самосуд в центр естественного права) и Дэвид Юм, утверждавший в эссе «О первичном договоре» (1748), что государственная власть ведет родословную из насильственного захвата господства в обществе разбойничьей бандой (поэтому закон, охраняющий личное имущество, защищает примарность произвола, что усвоил себе Пьер Жозеф Прудон, уравнявший собственность и кражу).