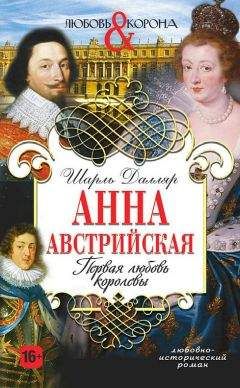Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Таким образом, Фауст получает указание пройти путь к Елене – путь постижения красоты. Гёте, глубоко зная античную культуру, не только свободно использует ее образы, но и переосмысливает их. Так, Елена Прекрасная в его интерпретации становится высочайшим созданием греческого мира, воплощением эллинского духа, а также идеала абсолютной красоты, соединяющей в себе красоту божественную и человеческую, духовную и физическую, – воплощением идеала красоты в понимании «веймарского классицизма». Человечество, как и каждый отдельный человек, не может жить без красоты, на протяжении всей своей истории пытается найти ее идеальную модель. Путь Фауста к Елене – это вечный путь человечества к постижению законов красоты. Кроме того, это и путь культуры немецкого Просвещения, начиная с Лессинга и Винкельмана, к пониманию духа античного искусства, это и собственный путь Гёте к «веймарскому классицизму» с его новым открытием античности и с его убежденностью, что путь к свободе лежит через красоту.
С момента, когда Фауст, узревший пока еще только тень Елены, прозрел, все его усилия направлены на то, чтобы найти подлинную Елену. Весь второй акт является подготовкой к этой встрече. В его начале, совершив некий гигантский виток, герои оказываются в исходной точке пространства – в тесной готической комнате с высокими сводами, бывшем рабочем кабинете Фауста. Гёте дает понять, что прошло довольно много времени с того момента, когда началось путешествие Фауста и Мефистофеля. Он подчеркивает это комической деталью: уже почти истлел меховой плащ Фауста, который когда-то надел Мефистофель, чтобы издевательски-остроумно поучать непутевого абитуриента, в плаще расплодилось огромное количество насекомых. Кстати, студент-новичок уже стал бакалавром (а значит, прошло как минимум четыре года), но сохранил вполне свое невежество и чудесно развил самодовольство. Плащ Фауста проела моль, в нем кишат вши и блохи, и все эти существа радостно приветствуют своего патрона – Мефистофеля, который, согласно фольклорным представлениям, является покровителем всякой мелкой нечисти:
С приездом, с приездом,
Старинный патрон:
Твоим появленьем
Наш рой привлечен.
Ты сеял нас редко
Числом небольшим,
И тысячью тысяч
Теперь мы кишим.
Таинственно скрытен
Лукавец и плут,
А вши прямодушно
Наружу ползут.
Во второй части Гёте все чаще обращается к средствам комической оперы, соединяет стихию философичности и тонкого лиризма с гротеском и иронией.
Между тем Фауст лежит неподвижно за занавеской на старой прадедовской кровати. Он в состоянии некоего летаргического сна, напоминающего смерть, и Мефистофель грустно-иронически констатирует: «Лежи, несчастный, в забытьи. // Кого ошеломит Елена, // Отдаст ей помыслы свои // И уж не вырвется из плена». Однако Мефистофель и сам растерян и не знает толком, что делать с Фаустом (во второй части всесилие Мефистофеля все более ограничивается). С этого момента на авансцене появляется новый важный герой – Гомункул, искусственный человек, созданный Вагнером, но, как дает нам понять автор, не без помощи Мефистофеля. Гомункул, само имя которого на латыни означает «человечек» (homunculus), – не совсем человек: он создан в колбе и только в ней может существовать, представляя собой чистый разум, лишенный телесности. Через этот образ, многозначный, сложный для прочтения, Гёте ставит целый ряд общечеловеческих и научных проблем, в том числе и проблему искусственного интеллекта.
Судьба Гомункула – определенная параллель судьбе Фауста, хотя и с иным наполнением. Как и Фауст, он рвется на простор настоящей жизни и чувствует себя в его кабинете, в котором ныне хозяйничает Вагнер, как в склепе, как в каменном мешке: «Ужасно в вашем каменном мешке. // В загоне ум, и чувство в тупике». Точнее, Гомункул передает чувства и ощущения Фауста, в мир которого он проник: «Проснется спящий, и в одно мгновенье // С тоски умрет у вас по пробужденьи». О себе же, о своей искусственности, он говорит с веселой грустью: «Природному вселенная тесна, // Искусственному ж замкнутость нужна». Гомункул жаждет преодолеть свою искусственность и обрести естественность, это значит – найти самого себя. Но не этого ли жаждет и Фауст, стремящийся от умозрительного знания к подлинному постижению бытия? Как и Фауст, Гомункул хочет подлинного дела, говоря своему «папеньке» – Вагнеру: «Меня с тобой счастливый случай свел: // Пока я есть, я должен делать что-то, // И руки чешутся начать работу. // Ты б дельное занятье мне нашел». Однако в отличие от Фауста у Гомункула нет плоти и плотских страстей, зато есть сверхострый разум (более острый, чем у Мефистофеля), глубинное внутреннее зрение. Только он понимает, что происходит с Фаустом: летая в колбе над ним, распростертым на кровати, он читает, точнее, видит наяву его сон. Этот сон – указание, что все мысли и чувства Фауста, даже его подсознание заняты Еленой: ему снится, как сливаются в любовном союзе белый лебедь и дивная красавица – Зевс и Леда, родители Елены:
Рой женщин раздевается в тени
Густых деревьев у лесного пруда.
Красавицы на редкость все они,
Одна же краше всех, и это чудо,
Из героинь или богинь, ногой
Болтает ясность влаги ледяной.
Вода ее прохладой обнимает,
Живое пламя стана остывает.
Однако чьи бушующие крылья
Зеркальность водной глади возмутили?
Бегут в испуге девушки. Одна
Царица плеском не устрашена
И видит с женским удовлетвореньем,
Царь-лебедь нежно льнет к ее коленям.
Он робок, но становится смелей
И все настойчивее жмется к ней.
Как вдруг туман окутывает дымом
Прелестный берег и навес ветвей
Над происшествием непостижимым.
Даже Мефистофель ошеломлен и смущен, ибо ничего не видит: «Откуда взял ты это, фантазер? // Так мал еще и так уже остер! // Не вижу ничего». На это Гомункул отвечает усмешливо и остроумно: «Ты – северянин, // И ты родился в Средние века. // Твой мир попов и рыцарей – туманен, // Его окутывают облака. // Как хочешь ты свободен быть и зорок, // Когда тебе привычный сумрак дорог?» И далее, когда Мефистофель выказывает полное недоумение по поводу классической Вальпургиевой ночи, куда, как в родную стихию, предлагает Гомункул окунуть Фауста: «Вполне понятно. Что за удивленье? // Вам ведом романтический фантом. // Но чтоб считаться истинною тенью, // Ей надо быть классической притом». Так Гёте добродушно иронизирует над романтиками с их культом Средневековья и всяческой мистики, заявляя, что его идеал – классическое искусство античности и что скоро читатель вместе с героями окажется именно на земле Эллады, погрузится в ее культуру.
Гомункул ведет всех на берега Пенея, в Фарсальские поля в Фессалии, знаменитой своим колдовством и колдуньями. Поля под городом Фарсал прославились еще и тем, что здесь Юлий Цезарь одержал решающую победу над Гнеем Помпеем 9 августа 48 г., и эту победу, согласно поэме Лукана «Фарсалия», предсказала фессалийская колдунья Эрихто, которая и открывает своим монологом, написанным ямбическим триметром (им писали свои трагедии греческие трагедиографы), «Классическую Вальпургиеву ночь»:
На страшный праздник этой ночи сызнова
Пришла, как прежде, я, Эрихто мрачная,
Не столь, однако, мерзкая, как подлые
Поэты лгут…
Жалобы Эрихто на оклеветавших ее поэтов, производящие комический эффект, призваны напомнить, что все, что далее развернется перед читателем, – чистейший поэтический вымысел, хотя и апеллирующий к историческим событиям и реалиям античной культуры. Гёте хочет также сказать, что военная слава Рима – ничто в сравнении со славой Эллады, ее мифов и преданий:
Бивачные костры, пары кровавые
И вкруг огней причудливые зарева.
Фалангой эллинской преданья строятся.
Мелькают на свету, в дыму теряются
Дней баснословных сказочные образы.
Неполный, ясный месяц подымается
И ослабляет синий отблеск пламени,
Сгоняя с поля прочь палаток призраки.
Гёте умышленно дает двум сценам в двух частях произведения сходные названия, отличающиеся всего лишь одним словом, – «Вальпургиева ночь» и «Классическая Вальпургиева ночь», чтобы читатель сравнил их, увидел сходство и отличие. Сходство – в безудержной фантазии, в фантасмагоричности и гротескности, в насыщенности обеих сцен сложной мифологической символикой. Однако первая представляет средневековый мир, мрачную готическую фантастику, к которой так тяготели романтики (эту ночь сам Гёте именовал также «романтической»). Вторая же в сжатом виде представляет мир Древней Греции, ее мифологию и культуру, мир гармонии и красоты, точнее – рождение классического эталона красоты из мира причудливых фантасмагорий. По мысли Гёте, нельзя найти эталон красоты, не погрузившись глубоко в античную культуру, ставшую одним из важнейших истоков европейской культуры. Недаром Фауст, очутившись на Фарсальской равнине, скажет: «Здесь Греция, и я в ее краю! // Я эту почву ощутил мгновенно // Сквозь тяжкий сон, мне сковывавший члены, // И, встав с земли, я, как Антей, стою». Именно здесь он возрождается духовно, как возродился сам Гёте, вдохнувший воздух Италии и открывший там заново античное искусство.