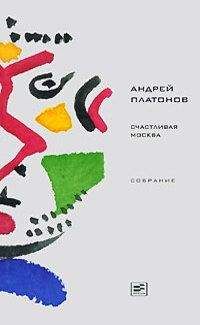Ольга Ладохина - Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века?
Вспоминается ему и семья А. Болконского, когда он размышляет о своем методе научного исследования: «Мой безнадежно устаревший хронотоп – это быстрое чтение работ авторов, находящихся от меня на большом расстоянии (ох, не зря школьники прозвали меня Болконским: именно таким чтением баловались и отец, и сын, находясь в отставке…)» [15: 109]. Говоря о малосимпатичных поступках некоторых сотрудников филологического НИИ в период выборов руководителя института, он вспоминает героя пушкинского «Выстрела»: «Сколько теперь у меня злопыхателей! И никакого сговора или заговора, каждого из них я персонально чем-то обидел и каждый Сильвио ждет возможности ответно унизить меня» [15: 166].
Герой романа не раз размышляет о сложности занятий наукой, подчеркивая, что наука – «занятие для сверхтерпеливых…» [15: 169] и что «наше научное дело – чертежи и схемы» [15:194]. Вместе с тем, его взгляды на этот вопрос далеки от ортодоксальных. Описывая случай с неточным комментированием Лотманом одной из эпиграмм Шиллера в вольном переводе Лермонтова, герой «Романа с языком» отстаивает право ученого на импровизацию и выдвижение смелых гипотез: «Надоедает говорить правду, пассивно воспроизводить информацию, пусть и малоизвестную. “Факты – воздух ученого”? – Ох, и ученому тоже иной раз хочется открыть форточку и проветрить свою седовласую голову» [15: 216]. Весьма далеки от общепринятых и его взгляды на стиль изложения научного материала: «Сам я раньше, и даже в советское время, свои книги в основном продавал под видом “учебности” и “популярности”, выпускал их в массовых издательствах за нормальные скромные гонорары. Относительная прозрачность и читабельность этих книг, конечно, не способствовала росту моего престижа в нашей научной деревне: писать о языке языком нормальным – неприлично» [15: 195].
Герой постоянно находится во власти «филологических пристрастий». При описании взаимоотношений научных сотрудников он вспоминает об отношениях пушкинских героев одной из «Маленьких трагедий»: «Милый Игрек, не будь Сальерей – хотя бы потому, что не Моцарт я, абсолютно!» [15: 198]. Говоря об источниках энергии творческой личности, автор раскрывает открытую им тайну «вечного двигателя» творца: «.. гений отличается от нас тем, что неуспехов он по спасительному своему идиотизму не ощущает, а всякий успех автоматически со стопроцентной сохранностью перерабатывает в новую созидательную энергию» [15: 197]. Сама история жизни Андрея Языкова в романе уходит на второй план, главным героем становится Язык.
В романе «Б.Б. и др.» А. Наймана в первую очередь интересуют вопросы функционирования собственного «я» в творческом процессе, соотношение между интуицией и интеллектом, эмоциональностью и трезвостью оценок.
Главный герой произведения – потомственный филолог, на понимание сложного духовного мира которого «должен уйти том, и обязательно неоконченный, как у Музиля, потому что Б.Б. – человек, тоже не зависящий от свойств, только не человек без свойств, а человек из свойств: из заемных свойств…» [14: 6]. Основные черты его – от отца, который сделал «тягучую советскую карьеру», начав с исследования произведений Пушкина, но «вовремя отдрейфовал к невредным сентименталистам» [14: 9]. О династических традициях в филологической науке Найман иронично отзывается цитатой из гоголевского «Ревизора»: «Помните: “Будет, так же, как и отец, содержать трактир”» [14: 46].
Эгоизм и стальная воля передались Б.Б. от отца, Об этом он говорил сыну перед смертью: «…На нас – на меня и на тебя – не действуют ни слова, ни обстоятельства» [14: 148], понимая также, что интеллект сына лишен интуиции («Б.Б. не мог что-либо предчувствовать, потому что не умел чувствовать» [14:106]). Эти черты Б.Б. отразились и на его научной деятельности: эгоизм мешал плодотворному обмену идеями с коллегами-филологами, а отсутствие интуиции и чувства меры привело к отлучению от науки на несколько лет (за коммерческие махинации с антиквариатом главный герой попал в тюрьму), но не явилось препятствием к творческой деятельности: после возращения из лагеря он дал почитать знакомым свои стихи и прозу. Там, где требовалась искренность, результат оказался плачевным: «Стихи были холодные, почти ледяные, однако про чувство, понимаемое им как любовь, и потому сладковатые, – все вместе наводило мысль об эскимо» [14: 129], но там, где требовался интеллект, усилия вполне оправдали ожидания: «А вот того же градуса проза оказалась точной, легкой и острой, как только что выпавший, с ясно различимыми снежинками снег» [14: 129].
Найман не идеализирует своего героя (эгоизм Б.Б., его душевная черствость отнюдь не придают ему обаяния), но ценит его в первую очередь за интеллект, литературную эрудицию, умение дать точные формулировки, что немаловажно в научных исследованиях.
Б.Б., размышляя о себе, не может не видеть духовную трансформацию некоторых представителей творческой интеллигенции: «Б.Б. с недоумением, а потом с удивлением обнаруживал что-то, что он тридцать с чем-то лет назад, в конце 50-х, слышал как новое, наивное… все это, законсервированное вплоть до конкретных слов и интонаций, сейчас утверждалось как вывод из прожитого и итог… То, что тогда представлялось всего лишь приемами искусства, превратилось в искусство приемов» [14:164]. А вот герой дает характеристику известному поэту Квашнину, ссылаясь на персонажа «Египетских ночей» Пушкина: «Уравновешенный, честный, острый – стихи и манеры Квашнина так и подбивали кончить перечисление: пушкинский – ум, но нет: принимаемый за пушкинский, а на самом деле Чарского» [14: 175], отмечает его хорошую литературную эрудицию, вспоминая строчки Квашнина («Жена, нося тугие кителя // ремни и гетры, прибавляет в шарме…»): «Б.Б. подумал, что бы сделал с этим Катулл, или Бертран де Борн, или Донн, или, в конце концов, Кузмин, каким пропиталось бы это дурманным настоем мускуса, пота, сбруи, страсти, крепких мужских тел…» [14: 177].
Б.Б. никогда не отступает от своего амплуа эгоиста и интеллектуального собеседника: пригласив своего приятеля прочитать за границей лекцию в университете и погостить, на второй день он, не смущаясь, просит помочь его разобрать чемодан переписки 60-х годов. Его оценки России 90-х точны и нелицеприятны: «В России что ни мысль, то ржет, как Русь-тройка, что ни искусство, то мечтает позвонить в Царь-колокол» [14: 265].
Внимание писателей постмодернистского направления обращено на проблему внутренней свободы художника слова; оптимального сочетания в филологических исследованиях строгого научного подхода с образностью мышления, влияние черт характера личности на результаты его творческой деятельности.
Все писатели первой половины XX века, героями которых были творческие личности, показывали, по наблюдениям Э.Я. Фесенко, «своих творцов» как духовных и интеллектуальных личностей, утверждая, что творческий дар – это не только «демиургическое блаженство», но и «большая ответственность перед миром и перед самим собой <…> Не все творцы были достойны своего «дара», «тогда они жестоко расплачивались за это: сходили с ума, кончали самоубийством или становились убийцами, как, например, герои В. Набокова (Лужин в «Защите Лужина», Горн в «Камере обскура», Герман в «Отчаянии» и др.)» [153: 11].
Человеческая жизнь всегда была самым любопытным предметом наблюдения писателей, и жизнь творческой личности не могла их не интересовать, ибо биография художника/ученого – это всегда миф, который надо рассматривать через призму его творчества, так как иногда литературный факт важнее и интереснее случая из жизни.
Представители формальной школы были склонны к игнорированию роли сюжета, для них чаще представляли интерес тексты героя-творца. В. Каверин, В. Шкловский, К. Вагинов в своих романах утверждали, что писать о творческих личностях трудно, так как сложно изнутри показать творческий процесс.
Для А. Битова, С. Гандлевского, А. Наймана важен момент пробуждения дара писательства у героя-творца. Герои постмодернистских филологических романов, по замечанию М. Липовецкого, в основном не терзают себя угрызениями совести, они беспощадны как к окружающим, так и к себе, но четко отслеживают, как бы «не встать выше своих героев, не продемонстрировать недоступное им знание» [98: 357]. В героях постмодернистских филологических романов, в отличие от романов начала XX века, отчетливее выражено креативное начало, но сближает их, несомненно, мифологическое представление о творце как о демиурге. Несмотря на то, что у каждого из писателей складывалась своя концепция героя, этих героев объединяет одержимость мыслью о великой созидательной миссии искусства. Ю. Тынянов попытался, работая над романом «Пушкин», сформулировать свое понимание творческой личности, констатируя, что «это не резервуар с эманациями в виде литературы и т. п., а поперечный разрез деятельности с комбинаторной эволюцией рядов» [154: 385].
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/161891/161891.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/162449/162449.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/161769/161769.jpg)