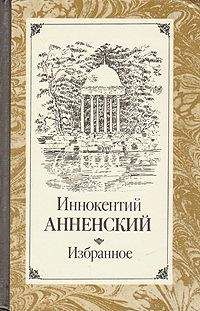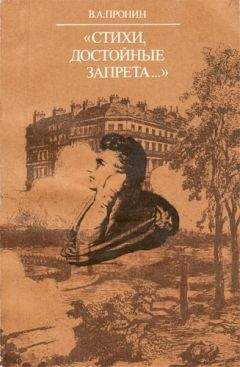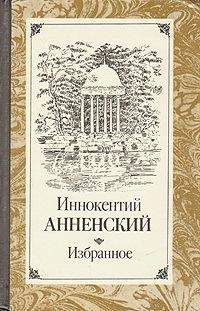Юрий Рябинин - История московских кладбищ. Под кровом вечной тишины
По свидетельству М. И. Цветаевой всего Нечаев-Мальцев вложил в Музей изящных искусств гигантское состояние — три миллиона рублей. (По другим данным — два миллиона). Когда в 1905 году забастовали его мастера хрустальных дел, принося фабриканту колоссальные убытки, Нечаев-Мальцев у музея не урезал ни единого рубля. Как уж он выкрутился, как исхитрился, никому не известно. Безо всякого преувеличения можно утверждать, что не будь Ю. С. Нечаева-Мальцова, не было бы и московской достодивности первой величины — Музея изящных искусств на Волхонке.
В советское время на здании музея были открыты две мемориальные доски — И. В. Цветаеву и Р. И. Клейну. Нечаев-Мальцов же остался неупомянутым, будто никакого отношения к музею не имел. Ну, в те годы о фабрикантах, капиталистах, эксплуататорах, какие бы ни были у них заслуги, вспоминать вообще было не очень-то принято. Но теперь-то самое время вспомнить о жертвователе-рекордсмене. И уж если не мемориальную доску, не памятник, то хотя бы могилу Ю. С. Нечаева-Мальцова восстановить можно было бы.
Один из крупнейших искусствоведов своего времени, московский Стасов, как его называли, Сергей Сергеевич Голоушев, больше известный под псевдонимом Сергей Глаголь, оказался на кладбище Новодевичьего уже в не лучшие для монастыря времена. Борис Зайцев писал в воспоминаниях: «Бедный Сергеич! На его закатные дни легла страшная лапа истории. Узнал бывший студент в плаще семидесятых годов, спаситель Веры Засулич — на себе испытал новое царство. Сергеича в Москве взяла смерть — среди бедствий, голода, холода и унижений».
С. С. Голоушев был сыном жандармского полковника. Но это не помешало ему в свое время записаться в «Народную волю». Наверное, он не был активным членом этой организации, почему в 1881 году не оказался в петле вместе с главными заводилами. Но ссылки тем не менее Голоушев не миновал. Впрочем, нет худа без добра. Ссылка пошла ему на пользу. Он, по выражению Бориса Зайцева, «политическую „левизну“ свою там и оставил». Возвратившись в Москву, Голоушев как-то поступил на должность врача при Хамовнической полицейской части. Там же, при части, он и жил. В этой его квартире часто собирались писатели и художники. Иван Белоусов писал о своем товарище: «Голоушев в должности врача Хамовнической части был до 1906 года. Когда после подавления восстания в помещении пожарного двора при части было устроено место казни революционеров и Голоушев в качестве врача должен был присутствовать при казнях, он отказался от должности городского врача, переехал на квартиру на Остоженку, в Ушаковский переулок, и стал заниматься частной практикой».
Одновременно, а может быть в первую очередь, Голоушев занимался искусствоведением. Много публиковался. Первую книгу о Художественном театре они написали совместно с Леонидом Андреевым. Вот тогда-то и появилось в литературе новое имя — Сергей Глаголь. А затем он стал выпускать книги одну за другой — «Художественная галерея Третьяковых», «И. И. Левитан, его жизнь и творчество», «Очерки по истории искусства в России», написал несколько монографий о художниках — Нестерове, Врубеле, других. Сергей Глаголь и сам был неплохим художником. Какие-то его работы даже находятся в Третьяковской галерее. Глаголь не только сам участвовал в знаменитой «Среде», но его квартира сделалась, как пишет Иван Белоусов, «филиальным отделением телешовских “Сред”». А Борис Зайцев рассказывает, как именно проходили их литературные встречи у Сергея Глаголя в Хамовниках: «Для меня, только что принятого, эти собрания, в частности дом Сергеича, навсегда связаны с первыми литературными шагами, первыми встреченными писателями, первыми чтениями — в полутемном кабинете Сергеича, под бледным кругом лампы с зеленым абажуром, перед старшими художниками дела нашего, некоторые из которых вызывали восхищение и жуткое волненье. Очень страшно так читать, впервые, не забудешь… Небольшая, полная этюдов Васнецова, Поленова, Левитана квартира Сергеича наполнялась, сидели и в гостиной под какими-то персидскими щитами, у бухарских копий, в кабинете на гинекологическом ложе, спорили о символистах, декадентах (тогда модный спор), быте, реализме и т. п. А потом слушали — очень часто читал Андреев. Реже Бунин, Телешов, я и другие. Кончалось все ужином. Сергеич сам готовил удивительнейшую селедку, хоть бы в „Прагу“. Разные водки в графинчиках, пироги, грибы, заливные… вообще Москва — то русское тепло и тот уют, немножко лень, беспечность, „миловидность“, что и есть старая Русь».
Увы, в истории литературы и культуры Сергей Глаголь остался где-то на самых задворках. Когда по какому-нибудь случаю перечисляют участников «Среды», то обычно для комплекта, для массовости, упоминают и Сергея Глаголя. Но не более. Борис Зайцев утверждает, что «Сергеич» все умел делать даровито — «от гинекологии до гравюры …замечательно же ничего сделать не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в истории ни в одной из тех деятельностей, коими он занимался». Похоронен С. С. Голоушев был неподалеку от могилы А. П. Чехова. Когда ликвидировали кладбище в монастыре, Сергея Глаголя занесли в почетный список тех, кто должен быть перезахоронен за стеной — на Новодевичьем кладбище. Но по какой-то причине его так и не перезахоронили.
А вот как описывает Борис Зайцев последние дни и похороны самого Чехова: «Чехов жил в Аутке, как в санатории. В Москву всегда его тянуло, особенно зимой, когда театр: там и играла О. Л. Книппер, на которой только что он женился. Иногда он в Москву „сбегал“, всегда к ущербу для здоровья. В Москве любил то, чего теперь как раз нельзя было: морозы, ресторан „Эрмитаж“, красное вино. И как-то раз зимой, кажется, в 1903 году встретил я его на „Среде“ у Телешова, — Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича на Чистых прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное „мертвое пространство“ — впрочем, ему трудно было бы и заполнить его по слабости. Он сидел в центре стола. За веселым ужином почти не ел и не пил. Только покашливал да поправлял волосы на голове. В январе 1904 года, в день его именин, шел впервые с триумфом „Вишневый сад“. Чехов кланялся со сцены, через силу улыбался. А спустя полгода в Баденвейлере сказал „Ich sterbe“, вздохнул и умер. Мы хоронили его в Москве в светлый день июля. На руках несли гроб с Николаевского вокзала и много плакали. Плакать было о ком — не пожалеешь тех слез. Долго шла процессия, через всю Москву, которую так любил покойный. Служили литии — одну у Художественного театра. И лег прах его в родную землю Новодевичьего монастыря. Дождь прошумел на кладбище, а потом светлей закурились в выглянувшем солнце купола. И ласточки над крестами прореяли».
А в монастырской книге регистрации могил о новом покойном была сделана следующая запись: «Чехов А. П. Писатель. Могила за Успенской церковью около отца. Умер 2 июля в Баден-Бадене от туберкулеза, 44 лет. Погребено тело во втором разряде. За могилу получено 400 рублей». Монастырский писарь, по-видимому, и предположить не мог, что за границей есть еще какие-то места, кроме Баден-Бадена, куда выезжают русские писатели.
Борис Зайцев почему-то не посчитал нужным отметить, что Чехова отпевали в монастырском Успенском храме. Вообще, в монастырях не принято отпевать, венчать, совершать другие обряды. Это делается обычно в приходских храмах. Не случайно раньше вблизи монастырей строили приходскую церковь. Была такая церковь когда-то и вблизи Новодевичьего монастыря. Но она не пережила 1812 год. Считается, что ее взорвали по личному распоряжению Наполеона. И так и не стали восстанавливать впоследствии. Возможно, Чехов был первый, кого отпевали в Новодевичьем монастыре. А поскольку был прецедент, теперь уже традиция не совершать в монастыре обряды не соблюдается: в 1947-м там отпевали ректора МДА протоиерея Николая Чепурина, а последние годы — Олега Ефремова, Артема Боровика и других.
Печальная участь постигла в 1998-ом кресты Смоленского собора, которые упоминает Борис Зайцев. В тот год, летом, в Москве разразилась невиданная буря. Деревья валились сразу целыми парками. Будто листья, над городом кружились куски сорванного с крыш железа. Остекления с балконов улетали в соседние дворы. И помимо прочих разрушений, случившихся тогда в столице, в Новодевичьем монастыре со Смоленского собора были сорваны кресты. А их там по числу куполов — пять. Вообще, в народе это считается крайне недобрым предзнаменованием, дурной приметой. Многие люди, склонные давать всяким явлениям сакральное толкование обеспокоились: что-то будет?. Но ничего особенного, к счастью, не произошло. Последовавший сразу вслед за этим т. н. дефолт — обрушение государственной финансовой системы, вряд ли можно считать бедствием, находящимся в связи с происшествием в Новодевичьем. За годы демократии подобных или худших бедствий было уже столько, что на Руси крестов не наберется на каждое из них. Новодевичьи кресты вскоре вернули на свое место. А толковать случившееся стали уже так: собор-то прежде реставрировали поляки, а они латиняне — вот и не удержались православные кресты, установленные иноверцами.