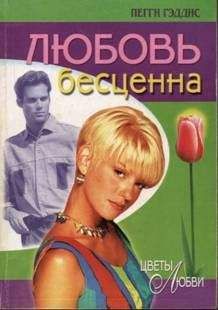Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен
Однако этот традиционный троп вскоре обретает несколько неожиданных оттенков. Юный Уайатт ассоциирует утонувшего моряка из сказки Гервасия с мученической смертью святого Климента из-за утопления с якорем, присутствующего в обоих рассказах, а взрослый Уайатт добавляет к ним третий элемент — ироничное предположение Чарльза Форта (из его «Книги проклятых» [1919]), что, возможно, мы все находимся на дне небесного моря и нас вылавливают пришельцы над головами — об этом Уайатт(и после него — Эсме) будет часто говорить в романе. Эти три элемента в итоге присоединятся к образу подводной лодки, который будет набирать силу по ходу развития сюжета, пока не пойдут слухи о том, что Уайатт «живет в подполье. Или под водой». Далее в романе появляются похожие образы, пока Уайатт не решит вернуться домой к отцу после ночной ссоры с Валентайном. Там он рассмотрит их с христианской перспективы:
Теперь — помнишь? Кто это был, “gettato a mare” [74], помнишь? с якорем на шее? и брошенный, пойманный келпи и ставший мучеником, помнишь? в небесном море. Вот, может, нас ловят, как рыб. […] Ты читал Аверроэса? Что я хочу сказать — мы верим, чтобы понимать? Или чтобы… нас ловили, как рыбу. […] Да, да, точно. Плоть, помнишь? о бедная плоть человеческая, до чего же ты уподобилась рыбьей [75]. Он вскочил. — Слушай, ты понимаешь? Нас ловят, как рыбу! На этой скале [76], помнишь?и я сделаю вас ловцами человеков [77]?
Внезапно вспомнив обещание Иисуса Петру и Андрею сделать их ловцами человеков — извлеченное из этой мешанины средневековых сказок, схоластики и даже строк из Ромео и Джульетты, — Уайатт решает вернуться домой и продолжить учиться на священника. Впрочем, в домашний период несколько «морских» отсылок указывают, что Уайатт все еще в море, что он ничуть не приблизился к спасению. Подводные образы продолжают встречаться на протяжении второй части книги, особенно при описании роскошных апартаментов Брауна, красиво названных подводной обителью ибсеновского Короля троллей. В третьей части Эсме ассоциирует Уайатта одновременно с утонувшим моряком, поднятым из океана во время ее путешествия со Стэнли по Европе, и с утонувшим моряком из сказки Гервасия. Первая ассоциация говорит о важности жизни, представляя символическую смерть Уайатта в море, предвещаемую в романе несколькими упоминаниями ранее. «Утопление» Уайатта происходит в главе, стратегически расположенной между его уходом под именем Стефана Эша от Синистерры с «мумией» в III.3 и его возрождением в виде Стивена в III.5 — под именем, которое хотела дать ему Камилла. Это очевидная параллель со «Смертью от воды» Т. С. Элиота, структурно расположенной в том же месте в «Бесплодной земле», — символическая смерть, необходимая для перерождения. «Я был в путешествии… — говорит Стивен/Уайатт в конце. — Я был в путешествии, берущем начало со дна морского».
В отличие от лунного и ночного символизма, поданных достаточно прямолинейно, морские символы в романе развиваются множеством неординарных способов. Можно считать образцовым примером затянутую шутку Гэддиса со словами «Пелагий/пелагианство/пелагический/пелагийство/Пелагия». Пелагианство — одна из ересей, о которой Уайатт спрашивает отца по возвращении с годового богословского обучения. Британский монах Пелагий (ок. 354 — после 410), один из великих ересиархов, не только отвергал доктрину первородного греха, но и настаивал, что люди свободны творить добро или зло, в отличие от учения Августина, согласно которому люди без духовного наставничества инстинктивно склоняются к злу. Преподобный Гвайн принижает достижения Пелагия: «Не будь Пелагия, был бы кто-нибудь другой. Но нынче мы… слишком многие из нас объясняют первородным грехом собственную вину и ведут себя… относятся к другим так, словно они полноценные… эм-м… Пелагийцы делают, что им вздумается…» Позже Уайатт признается, что он пелагиец, хотя это вряд ли означает, что он поступает как хочет. Скорее это значит, что он берет ответственность за свое спасение на себя, отказывается уповать на Христа (или его служителей), чтобы все сделали за него. Слишком уверенное упование на Христа, заявлял Пелагий, ведет к «моральному упадку» [78].
Имя «Пелагий» — латинизированная версия валлийского имени Морган, означающего «море»; возможно, Гэддис и не играет на связи Пелагия и моря, когда Уайатт шутит о «пелагийских милях», но это неоспоримо так во время разглагольствований Бэзила Валентайна:
И как ты говорил? Проклятие человека — его личное проклятое дело? Это неправда, знаешь ли. Неправда. Святые небеса, взять это твое самоубийство? […] Гляди! Гляди, там, в небе, где оно еще синее, та линия? Белая линия, что прочертил самолет, видишь? как ветер растрепал ее, словно веревку в потоке воды? да, человек в небесном море, а? спустился, чтобы отвязать ее, на самое дно, и его нашли мертвым, словно утонувшим. Эта… твоя пелагийская атмосфера, знаешь ли. Убийство, верно?
«Проклятие человека — его личное проклятое дело», — умная, хоть и мрачная эпиграмма, резюмирующая пелагийскую ересь, но использование Валентайном слова «пелагийский» для описания одержимости Уайатта небесным морем предполагает, что Валентайн — Августин в сравнении с Пелагием-Уайаттом в рамках теологических дебатов романа. Уайатт спасает себя, принимая роль жертвенного священника: Валентайн уже не раз обвинял его в желании покончить с собой через разоблачение собственных подделок, но Уайатт ответил: «Самоубийство? это? Значит, думаешь, будто есть только одно «я»? что это не убийство? не ближе к убийству?» Спустя несколько строк Валентайн узнает, что «я», которое хочет убить Уайатт, — это «ветхий человек», название грешного «я» до крещения (из Нового Завета, Еф. 4:22, Кол. 3:9). (Отто и Синистерра тоже пользуются этим выражением.) Уайатт одинаково и священник, и священная жертва, доводящая пелагийство до теологической крайности, включающей и своего отца, и христианского Отца Небесного в список ветхих людей, кого ему нужно убить во имя спасения.
Помимо этого, Пелагией зовут святую-куртизанку — Уайатт вспоминает ее во внутреннем монологе в момент, когда в его сознании бушует отвращение к плотским грехам (392, за восемь страниц до «пелагийских миль»). Эта bienheureuse pécheresse («блаженная грешница»), как ее называют в источнике Гэддиса [79], начала карьеру ловцом человеков иного порядка; подходящая фигура для размышлений Уайатта о женщинах-как-искусительницах — темы, которая раскрывается в мотиве русалки, самого экзотичного элемента в морских образах романа. Некрасиво представленная в отсылке к различным «фальшивым» русалкам (в этом романе подделывают все), она в последующем появляется в разговоре Уайатта и Фуллера, слуги Брауна из Вест-Индии и одного из лучших комических персонажей Гэддиса (хотя с позиции политкорректности двадцать первого века подобное, наверное, назвали бы расизмом). Запросто веря в русалок и с трудом — в Господа Бога, Фуллер остроумно заключает:
— В это по-прежнему верится с трудом, всегда. Не так просто принять, как русалок.
— Русалки… русалки…
— Да, сар.
— И ты можешь… поверить в русалок, без особого труда?
— Да, сар, хоть и остается вопрос русалов.
— Да, в самом деле.
— Но вот русалки…
— Да, женщины… ты можешь поверить в женщин…
— О да сар, сказал Фуллер, и после паузы: — Женщины приводят нас в мир, вот их и держишься.
— Разве не женщина привела в мир и зло?
— Сар?
— Да. Когда сорвала плод с запретного древа; и дала отведать мужчине?
— Выходит, зло уже было, а она вполне естественным образом его нашла.
— Да, да, и дала мужчине…
— Поделилась, сар, сказал Фуллер. — За что мы ее и любим.