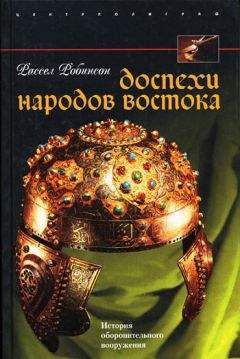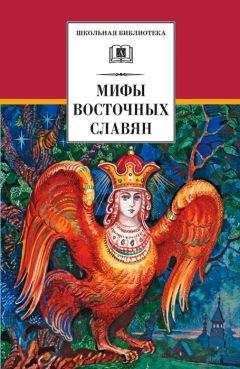Андрей Аствацатуров - Феноменология текста: Игра и репрессия
В отношении романтизма, как показывает приведенный нами пример, Элиот весьма критичен. С его точки зрения, романтизм использует неточное, неопределенное слово. Это можно почувствовать, рассмотрев, как поэт работает с романтической речью, лишая ее гипертрофированной патетики. Повторюсь, что вышесказанное не означает, будто автор «Бесплодной Земли» хочет высмеять великих гениев прошлого. Он лишь препарирует их поэтическую речь, пытаясь показать, по каким законам она строится.
Читатель обнаруживает, что романтический текст сформирован текстами предшествующих культур, первобытной и античной, которые составляют дополнительные уровни повествования. Первый угадывается в растительной символике, в намеке на календарный миф (смерть мира с приходом осени) и в метонимическом упоминании лирическим субъектом растительного бога («the last fingers of leaf»). Второй вводится образами нимф. На этих уровнях мы обнаруживаем важный для понимания поэмы мотив десакрализации жизни: бог, который обитал в реке, умирает, нимфы, персонификации священной сущности реки, покинули место своего обитания.
Эти уровни повествования корректируются еще одним — библейским, который вводится словом «tent» («шатер» в переводе А. Сергеева). Оно употребляется здесь также в значении «скиния». Большинство комментаторов поэмы, и в частности Б. Саузем[80], отмечают, что данный образ заимствован Элиотом из Книги пророка Исайи (Исайя, 33:20–21), где «неколебимой скинией» назван город Иерусалим. Господь будет здесь вместо рек. В «Бесплодной Земле» скиния разрушена, а город (Лондон) и река, на которой он стоит (Темза), десакрализованы.
33-я глава Книги пророка Исайи содержит важный для понимания «Огненной проповеди» этический смысл. Человек здесь представлен как осквернитель. Он оскверняет землю, но при этом оскверняется сам, и тот огонь разрушения, который он в себе несет, уничтожит его самого: «дыхание ваше — огонь, который пожрет вас» (Исайя, 33:11).
Идея, заключенная в Книге Исайи, перерабатывается Элиотом в мотив осквернения (опустошения) — центральный мотив «Огненной проповеди». Человек предстает как осквернитель, заражающий огнем своей страсти мир, природу, которая также становится воплощением всего чувственного и греховного. Но чувственность мимолетна, она исчерпывает себя, и природа предстает опустошенной, бесплодной, утратившей былую страсть. Поэтому Темза, в образе которой представлена природа, пуста и не несет с собой даже тривиальных свидетельств чувственной любви.
Библейский уровень повествования проявляется и в словах персонажа: «By the waters of Leman I sat down and wept…» (У вод леманских я сидел и плакал…). Эта фраза — измененное начало 137-го псалма, которое в английском переводе звучит следующим образом: «By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, / We wept, when we remembered Zion». (При реках Вавилона мы сидели / И плакали, когда вспоминали о Сионе.) Изменения, внесенные Элиотом в текст строчки псалма, обнаруживают несоответствие скорбного настроения, на которое библейский стих ориентирует читателя (и соответственно его стиля), реальности. Конвенции, устанавливаемые между исполнителем псалма и слушателем, перестают работать. Ожидание оказывается обманутым. Вместо Вавилона в тексте «Бесплодной Земли» появляется Леман (Женевское озеро) — реалия, полностью лишенная тех коннотаций, которыми наделен образ Вавилона, и обладающая совершенно иными. Слово «leman» имеет устаревшее значение «любовница» или «проститутка» (мотив греховной, чувственной любви), на которое в данном контексте, безусловно, намекает Элиот. Это снижение снимает скорбь фразы, оставляя лишь риторический каркас. Однако высокий смысл библейской цитаты остается актуальным: герой соотнесен с иудеями, вспоминающими об утраченной родине. Повествование вновь возвращает читателя к элиотовскому пониманию культуры и традиции. Герой не только изолирован от жизнедарующих сил природы, но и погружен в духовное рабство. Он не осознает, что одна из причин его опустошенности — разрыв с истоками духовности, с культурной традицией. Он не помнит своих истоков и потому не произносит вторую часть фразы (слова «вспоминает о Сионе»). Следовательно, он не способен творить: «Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long» (Милая Темза, тише, ибо негромко я и недолго пою).
Еще один уровень повествования, тип поэтической речи, рождающий текстовую реальность отрывка, следует, пожалуй, обозначить как барочный. Он вводится измененной цитатой из уже упомянутого нами в связи с «Пруфроком» программного в английской поэзии стихотворения поэта-метафизика Эндрю Марвелла «Застенчивой возлюбленной», где лирический герой уговаривает свою застенчивую возлюбленную не тратить время попусту и предаться страсти (вновь мотив чувственной любви). У Марвелла кульминационная фраза стихотворения, которую заимствует Элиот, звучит так: «But at my back I always hear / Time's winged chariot hurrying near» (Но за спиной я всегда слышу спешащую крылатую колесницу времени). Ср. в «Бесплодной Земле»: «But at my back in a cold blast I hear / The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear» (Но за спиной в холодном порыве ветра я слышу стук костей и хихиканье). Элиот, как мы видим, вновь обманывает читательское ожидание, своеобразно прочитывая и препарируя текст.
Таким образом, аналитические интенции Элиота, начиная с самых ранних стихов, постепенно усиливаются. Они оказываются неизбежными, ибо автор ставит своей целью добиться осознанного синтеза эпох, заставляя их вступать друг с другом в диалог. Поэтику «Бесплодной Земли» вряд ли можно было бы назвать «поэтикой руин». За внешней статичностью поэмы скрыта мощная динамика, развитие и движение культурных блоков, заставляющая почувствовать невыразимый дух, связывающий произведение в единое целое.
И все же синтез, осуществленный Элиотом в «Бесплодной Земле», проникнутый критической силой, окажется для поэта недостаточным. С конца 1920-х годов он приступит к созиданию уже не мозаичного, как это было в «Бесплодной Земле», а действительно органического художественного пространства, нерасторжимой поэтической речи. Завершением этой работы станут его знаменитые «Четыре квартета».
Глава 3
Вирджиния Вулф: метаморфозы бестелесной энергии
Английская писательница Вирджиния Вулф (1882–1941) — давно признанный классик литературы XX в. Ее имя ставят в один ряд с именами Дж. Джойса, Т. С. Элиота, О. Хаксли, Д. Г. Лоуренса, тех, кто определял магистральные пути развития всей западноевропейской литературы. Ее произведения, такие, как «Комната Джейкоба» (1922) «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928), «Волны» (1931), «Между актов» (1938), не принадлежат к разряду легкой беллетристики; скорее они элитарны и рассчитаны на сильного читателя. И все же со дня трагической гибели писательницы ее популярность у интеллектуальной читательской публики нисколько не угасла — напротив, в последние годы интерес к текстам Вирджинии Вулф возрастает. Ее романы и эссе переиздаются с неизменной регулярностью. Почти каждый год в Европе и Америке проводятся конференции, посвященные творчеству Вулф. Ее тексты — предмет серьезных исследований и дискуссий филологов, искусствоведов и феминисток. В 1998 году Майкл Каннингем публикует роман «Часы», своеобразную интерпретацию жизни и текстов Вулф, и получает сразу две национальные премии. А в 2002-м на экраны всего мира выходит голливудский фильм «Часы» Стивена Долдри (роль Вирджинии Вулф в нем исполнила Николь Кидман). Эти события лишь подтверждают растущую популярность писательницы и интерес к ее фигуре со стороны не только интеллектуалов, но и широкой публики.
От импрессионизма к литературной игре
На сегодняшний день творчество Вирджинии Вулф подробнейшим образом исследовано западной академической наукой. Ее романы подверглись многочисленным самым разнообразным интерпретациям; прокомментированы фундаментальные основания ее мировидения, ее литературно-критические и социальные воззрения. В настоящей статье на материале пяти основных романов Вулф мы попытаемся описать основания ее поэтики; как нам представляется, они связаны со стремлением писательницы воссоздать в своих текстах бестелесную энергию. Здесь существенны сами способы выражения этой энергии, уклоняющейся от обозначения, и осознание Вирджинией Вулф пределов литературного опыта, в полной мере отразившееся в ее последнем романе «Между актов». Едва появившись на литературной сцене, Вулф позиционировала себя как яростный критик традиционной реалистической прозы. Объектом атаки писательницы стали три знаменательные фигуры английской литературы: Арнольд Беннет, Джон Голсуорси и Герберт Уэллс. В программном эссе «Современная проза» (1919) Вирджиния Вулф называет их «материалистами», упрекая в излишней сосредоточенности на внешних, телесных формах мира[81]. Материальные данности, полагает она, главный предмет изображения в их произведениях. Тело мира в них предстает устойчивым, вечным, замкнутым на себе и освоенным лишь рассудком. Между формами жизни оказываются возможны лишь внешние (поверхностные) механические отношения. Соответственно, по мысли Вулф, поверхностность, рассудочность и механизированность становятся свойствами текстов этих писателей. Подлинная, непредсказуемая жизнь навсегда изгоняется оттуда, уступив место традиционным статичным сюжетным схемам[82]. С точки зрения Вулф косная материя не может быть главным предметом изображения, она является внешним, преходящим проявлением глубинного духа жизни, этапом его становления, временным обиталищем, которое он в какой-то момент обязательно покинет. И задача художника заключается не в том, чтобы скопировать действительность, а в том, чтобы высвободить и представить читателю заключенную в материи невидимую энергию. Эта смена фокуса, считает Вулф, неизбежно повлечет за собой изменение и в правилах построения текста.