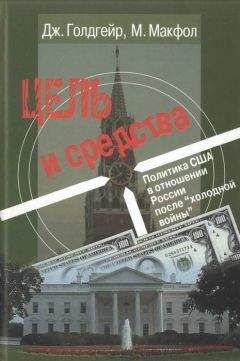Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
В Московском государстве о сгоревших церкви или иконе говорилось, что они «вознеслись»[74]. Красная площадь в Москве (в те времена, как и сейчас, — место торжественных процессий) в народе называлась «пожаром»[75]. Купола-луковицы московских церквей сравнивали с языками пламени[76].
Основная метафора, которая демонстрирует высшее соединение человеческой и божественной природы во Христе, — огонь, проникающий в железо. Не меняясь в своем существе, это «железо», символизирующее человека, приобретает огненную природу божества: способность воспламенять все, что к нему прикасается. Согласно византийскому определению, которое пользовалось известностью на Руси: «Став весь огнем по душе, он (человек. — Док. Б.) и телу передает от стяжанного внутри светлоблистания, подобно тому, как и чувственный огнь передает свое действо железу»[77]. Или, по словам Дионисия, «чувственный огнь есть во всем… незаметен сам по себе, если нет подходящего вещества, в котором он может явить свое действо… все обновляет своим жизнетворным жаром… неизменен, все, что вбирает, возносит ввысь, не перенося никакого унижения к земле»[78].
Жар, а не свет, тепло, а не просвещение — таков был путь к Богу.
В то же самое время в этой легко воспламеняющейся цивилизации огонь был страшной силой, незваным гостем, чье внезапное появление служило напоминанием о ее хрупкости и неустойчивости. Народное выражение «подпустить красного петуха» и по сей день обозначает поджог; красного петуха часто рисовали на деревянных зданиях, чтобы умилостивить огонь и предотвратить его гибельный приход. Леонов сравнивает лесной пожар с полчищем красных пауков, пожирающих все на своем пути[79].
Только в одной Москве в период с 1330-го по 1453 г. произошло семнадцать больших пожаров, и много-много раз огонь опустошал ее вплоть до великого пожара 1812 г. Летописные хроники Новгорода упоминают свыше ста серьезных пожаров[80]. Один из путешественников ХѴII в. заметил: «Чтобы пожар в этой стране стал значительным событием, должно сгореть по крайней мере семь или восемь тысяч домов»[81]. Неудивительно, что в русской иконографии огонь был главным символом Страшного суда. Его красное зарево в нижней части церковных фресок и икон было видно издалека, когда верующие зажигали церковные свечи.
Перун, бог грома и огнетворец, занимал исключительное место в пантеоне дохристианских божеств, а огненная жар-птица — особое место в русской мифологии. Прообразом Ильи Муромца, возможно самого популярного героя христианизированного народного эпоса, был пророк Илия, который низвел огонь на врагов Израиля и вознесся на небо в огненной колеснице (славянский вариант его имени и носит русский герой). Первая драма на Руси — это «Пещное действо», которое разыгрывается в последнее воскресенье перед Рождеством и в котором рассказывается о том, как три отрока — Седрах, Мисах и Авденаго, — брошенные в огонь царем Навуходоносором, были спасены Богом. Пришедшее из Византии, на Руси это действо превратилось в яркое театрализованное представление и получило новое музыкальное сопровождение. В русском варианте использовался настоящий огонь и после своего спасения три отрока обходили церковь и город, возвещая, что Христос явился спасти людей, так же как ангел Божий спас их из печи[82]. Во время первых религиозных споров в ХѴII в. ревнители веры горячо и последовательно отстаивали обряд, при котором зажженные свечи погружались в воды, освященные при Богоявлении, чтобы напомнить людям: Христос явился «крестить Духом Святым и огнем»[83]. В 1618 г. настоятель самого большого русского монастыря был избит толпой и на него была наложена ежедневная епитимья в тысячу простираний ниц за то, что он попытался покончить с этим неканоническим обрядом. Один из осуждавших этого настоятеля вменял ему в вину то, что он отказал Руси в «огне просветительном»[84]. Огонь был оружием старообрядцев в сороковые годы ХѴII в., когда они сжигали музыкальные инструменты, произведения живописи в иностранном стиле, а в Москве — сами здания, принадлежавшие иностранной общине. После того как старообрядцев предали анафеме в 1667 г., многие из них, часто со всей семьей и друзьями, сжигали себя в пропитанных горючими смолами деревянных церквях, предвосхищая таким образом очистительное пламя наступающего конца света[85].
Апокалиптическая тяга к очистительной силе огня продолжала жить в стихийных крестьянских бунтах — и, разумеется, в возникшей впоследствии идеологии дворянской революции. Атеист и анархист Михаил Бакунин во время революции 1848–1849 гг. завораживал Европу пророчествами о том, что вскоре всю ее охватят «языки пламени», которые низвергнут старых богов. Услышав в Лейпциге в 1849 г. Девятую симфонию Бетховена в исполнении Вагнера, Бакунин бросился заверять его, что это произведение заслуживает, чтобы его пощадил грядущий мировой пожар. Вагнеру, находившемуся под обаянием личности Бакунина (он называл его «кочегаром» революции), впоследствии не давала покоя мысль о том, что здание оперы погибло в огне вскоре после этого концерта. И возможно, именно Бакунин оказал влияние на образ вагнеровского Зигфрида, на огненную музыку самого Вагнера и на всю концепцию «Гибели богов»[86]. Когда в России в начале XX в. произошла собственная музыкальная революция, символика огня по-прежнему оставалась в центре: в «Поэме огня» Скрябина и в захватывающем синтезе музыки и танца в «Жар-птице» Стравинского и Дягилева.
Их жар-птица, подобно двуглавому имперскому орлу, исчезла в пламени революции 1917 г., которое ветер войны раздул из, казалось бы, незначительной ленинской «Искры». Многим дореволюционным поэтам сродни было, как сказал один из них, «влечение бабочки-души к огненной смерти»[87], а первый и наиболее выдающийся из поэтов, павших жертвой нового режима, оставил после себя посмертный сборник стихов — «Огненный столп»[88]. В период молчания, которым сопровождался сталинский террор, возможно, самый большой эмоциональный отклик слушателей вызывала постановка «народной музыкальной драмы» — «Хованщины» Мусоргского заканчивающейся самосожжением старообрядческой общины (на сцене Большого театра полыхал настоящий огонь). Подобный образ возникает и в творчестве Пастернака, однако вопрос о том, что же в итоге восстало из пепла культуры сталинской эпохи, относится скорее к эпилогу, нежели к прологу нашего повествования. Пока достаточно подчеркнуть, что чувство духовной близости с природными силами, существовавшее уже в древние времена, особенно возросло в лесу Великой Руси, который легко становился добычей пламени и в котором огонь и плодородие, мужская сила Перуна и мать сыра земля соперничали за власть над миром, где человеческие существа казались до странного ничтожными.
Объяснением тому, почему русские не впали в глубокий фатализм и отчаяние в ту беспросветную пору XIII–XIV вв., могут служить две пары артефактов, которые сопровождали их во всех пожарах и битвах того времени: топор и икона — в деревне, колокол и пушка — в монастыре и городе. Каждый элемент в этих парах внутренне соотнесен с другим, демонстрируя тесную связь между церковной службой и войной, красотой и жестокостью в воинственном мире Московии. В других обществах эти предметы были также значимыми, но на Руси они приобрели особое символическое значение, которое сохранили даже в сложных формах культуры нового времени.
Топор и иконаСопряженность борьбы за материальное начало и торжество духа в Древней Руси лучше всего демонстрируют два предмета, традиционно висевшие рядом на стене, в красном углу каждой крестьянской избы: топор и икона. Топор был главным и незаменимым орудием в Великой Руси: с его помощью человек подчинял себе лес. Икона, или священный образ, являлась вездесущим напоминанием о вере, которая хранила жителя неспокойных окраин и указывала высшую цель его земного существования. В то время как топор мог служить для такой искусной работы, как обтесывание и шлифовка деревянной поверхности, на которой писались священные образы, икону крестьяне несли впереди себя, когда шли с топорами в лес для более сурового дела — валить деревья или отражать нападение врага.
Топор был так же важен для жизни северного мужика, как мачете для обитателя тропических джунглей. Это было универсальное орудие, с помощью которого русский, говоря словами Толстого, мог «и дом построить, и ложку вырезать»[89]. «С топором весь свет пройдешь» и «Топор — всему делу голова»[90] — таковы только две из многочисленных поговорок на эту тему. Как свидетельствует один из первых (и лучших) исследователей быта Древней Руси: «В черных диких лесах и в полях, куда ходил топор, ходила коса и соха и бортная кжень, или где топоры ея ссекли, лес ронили и чистили, дворы ставили, починки и деревни посажали на лесех…»[91]