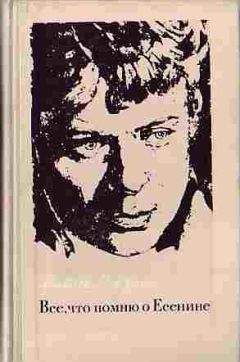Олег Лекманов - Сергей Есенин. Биография
Именно в октябре 1915 года в сознании современников начал формироваться миф о двух неразлучных друзьях, старшем – Клюеве и младшем – Есенине.
6 октября они вместе посетили переводчика и коллекционера Ф. Ф. Фидлера, о чем тот оставил запись в своем дневнике: “Оба восхищались моим музеем и показались мне достаточно осведомленными в области литературы. Увидев гипсовую голову Ницше, Есенин воскликнул: “Ницше!” <…> Видимо, Клюев очень любит Есенина: склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам”[223]. 7 октября Есенин и Клюев навестили художника и стихотворца, давнего знакомца Клюева по гумилевскому “Цеху поэтов” Владимира Юнгера. 21 октября они были в гостях у Александра Блока, записавшего в дневник: “Н. А. Клюев – в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо”[224]. Этим же вечером выступили с чтением стихов в редакции “Ежемесячного журнала”. Из дневника писателя Б. А. Лазаревского: “Великорусский Шевченко этот Николай Клюев, и наружность, как у Шевченка в молодости. Начал он читать негромко, под сурдинку басом. И очаровал <…> Затем выступал его товарищ, Сергей Есенин. Мальчишка 19-летний, как херувим блаженности и завитой, и тоже удивил меня. В четверть часа эти два человека научили меня русский народ уважать и, главное, понимать то, что я не понимал прежде, – музыку слова народного и муку русского народа – малоземельного, водкой столетия отравляемого. И вот точка. И вот мысль этого народа и его талантливые дети – Есенин и Клюев”[225].
Сергей Есенин. Рисунок В. А. Юнгера. Петроград. 7 октября 1915
Тем не менее Есенин, верный своему обычаю, и в этот период стремился не ограничивать себя единственной, пусть и "на ура” воспринимаемой ролью[226]. "Сейчас, с приезда, живу у Городецкого и одолеваем ухаживаньем Клюева”, – иронически докладывал Есенин в письме от 22 октября 1915 года к московской поэтессе Любови Столице[227]. Это как-то не очень вяжется с мифом о дружбе херувима блаженного с великорусским Шевченко.
Иероним Ясинский
1910-е. Фрагмент групповой фотографии
Уже и в первый свой приезд в Петроград Есенин довольно часто бывал в доме у прозаика Иеронима Ясинского на Черной речке, где регулярно собирался пестрый кружок “Вечера К. К. Случевского”[228]. Среди членов этого кружка были поэты С. Городецкий и А. Кондратьев, публицисты-народники М. Протопопов и А. Фаресов, писательница Н. Тэффи, известный критик А. Измайлов и др. Гостеприимная квартира Ясинского весной 1915 года послужила для молодого поэта своеобразным полигоном, учебной площадкой, где он отрабатывал манеру чтения и где отбраковывались и исправлялись неудачные строки его стихов. “…Поэту давали всевозможные советы, тренировали, некоторые строфы просили повторить, – вспоминала дочь Ясинского Зоя. – На Черной речке Есенин как бы имел последнюю репетицию перед публичным выступлением”[229].
Появившись здесь с Клюевым в октябре, Есенин, кажется, сознательно подчеркивал контраст между своей внешностью и явно затрапезным, провинциальным обликом старшего поэта. Приходя к Ясинскому, он “одевался по-европейски и никакой поддевки не носил, – вспоминала Ясинская. – Костюм, по-видимому купленный в магазине готового платья, сидел хорошо на ладной фигуре, под костюмом – мягкая рубашка с отложным воротничком. Носил он барашковую шапку и черное пальто. Так одевались тогда в Питере хорошо зарабатывающие молодые рабочие. Есенин имел городской вид и отнюдь не производил впечатления провинциала, который “может потеряться в большом городе””[230].
По иронии судьбы, знаменитый “народный” костюм Есенина был если не придуман, то в деталях обсужден именно в доме Ясинских. Незадолго до вечера “Красы” в Тенишевском училище “возник сложный вопрос – как одеть Есенина. Клюев заявил, что будет выступать в своем обычном “одеянии”[231]. Для Есенина принесли взятый напрокат фрак[232]. Однако он совершенно не подходил ему. Тогда С. М. Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шелковую голубую рубашку, которая очень шла поэту. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках”[233].
В модернистском гардеробе 1910-х годов экзотический “народный” костюм Есенина по праву соседствует с маскарадной черной маской Андрея Белого, алым хитоном Лидии Зиновьевой-Аннибал, желтой кофтой Владимира Маяковского… Удивительно, но факт: Александр Тиняков в пору своего заболевания тяжкой формой юдофобии обвинил в маскарадном есенинском переодевании некие зловещие еврейские силы: Есенин писал “стишки среднего достоинства, но с огоньком, и – по всей видимости – из него мог бы выработаться порядочный и почтенный человек, – рассуждал Тиняков в антисемитской газете “Земщина”. – Но сейчас же его облепили “литераторы с прожидью”, нарядили в длинную, якобы “русскую” рубаху, обули в “сафьяновые сапожки” и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот, позоря имя и достоинство русского мужика, пошел наш Есенин на потеху жидам и ожидовелой, развращенной интеллигенции нашей”[234].
Есенин и Клюев. Петроград. 1916
За четыре года до Тинякова печально известный В. Буренин темпераментно обличал в “прожиди” двух крестников поэтического дебюта Есенина в Петрограде:
Г<осподина> Блока спешит восхвалить и поддержать г<осподин> Городецкий, достойный его соперник по бездарности и безмыслию своих виршей. Посмотрите же, как он это делает. Он ставит эпиграфом, определяющим сущность “поэзии” г<осподина> Блока, следующие два совершенно шутовские его стиха:
Вперед с невинными взорами
Мое детское сердце идет.
Представьте себе эту картину: г<ос-подин> Блок выступает с томом своих юных вдохновений, а впереди идет его детское сердце, у которого оказываются "невинные взоры”. Конечно, только для отпрысков Израильского племени, какими, несомненно, должны считаться и сам г<осподин> Блок и его критик г<осподин> Городецкий, такая картина может показаться поэтической до самой "необычайной чрезвычайности” (выражение одного из "еще неведомых избранников” по части распространения жидовских глупостей в газете братьев Гессенов и Милюкова). Если еврейские отпрыски Блок и Городецкий могут вообразить сердце с глазами и, вероятно, также с носом, ртом и ушами, идущим впереди носителя этого удивительного сердца, то почему бы не усилить еще более нелепость картины, почему не нарисовать уже целую процессию других органов г<осподина> Блока, идущих впереди его? Ведь рядом с сердцем могут также основательно идти печенка, селезенка, желудок г<осподина> Блока. Ведь и эти органы можно также наделить "невинными взорами”, сладостно улыбающимися устами, еврейскими носами, трепетно и жадно нюхающими, откуда дует ветер всяких модернистских нелепостей и т. д.”[235].
Однако Тиняков в своей статейке о Есенине имел в виду отнюдь не Городецкого и Блока[236], а, скорее всего, С. Чацкину и Я. Сакера, печатавших Есенина в своем журнале "Северные записки” и вообще всячески покровительствовавших молодому дарованию.
Как ни странно, процитированный пассаж из тиняковской заметки отчасти перекликается со следующим фрагментом из не слишком правдивых мемуаров советского поэта Всеволода Рождественского, обвинившего в придумывании для Есенина псевдонародного костюма семейство Мережковских: “Для Зинаиды Гиппиус <…> появление Есенина оказалось долгожданной находкой. В ее представлении он, так же как и поэт Н. Клюев, должен был занять место провозвестника и пророка, “от лица народа” призванного разрешить все сложные проблемы вконец запутавшейся в своих религиозно-философских исканиях интеллигенции. Чтобы больше подчеркнуть связь с “почвой”, “нутром”, “черноземом”, Есенина облекли в какую-то маскарадную плисовую поддевку (шитую, впрочем, у первоклассного портного) и завили ему белокурые волосы почти так же, как у Леля в опере “Снегурочка””[237].
Опровергнуть Рождественского легко: достаточно напомнить о том, что как раз Зинаида Гиппиус с нескрываемой иронией отнеслась к маскарадным переодеваниям Есенина. По воспоминаниям самого поэта, увидев его однажды в валенках в салоне, Гиппиус насмешливо спросила: “Что это на вас за гетры?”[238]
Запланированный вечер “Красы” состоялся 25 октября. “Закоперщиком-конферансье вышел Сергей Городецкий, одетый под стрюцкого в клетчатые штаны. За ним – курносый, дьякообразный Алексей Ремизов в длиннополом сюртуке. А дальше – Клюев в сермяге, из-под которой топорщилась посконная рубаха с полуфунтовым медным крестом со старинной цепью на груди. И под конец – златокудрый Лель – Есенин в белой шелковой рубашке и белых штанах, заправленных в смазные сапоги. Трехаршинная ливенка оттягивала ему плечи”[239]. Такое шаржированное изображение участников вечера оставил в своих мемуарах крестьянский поэт и прозаик Пимен Карпов.