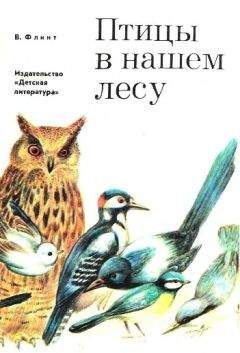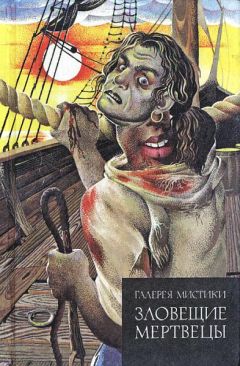Сюзанна Масси - Земля Жар-птицы. Краса былой России
Балет «Петрушка» оказался совершенным произведением искусства, в котором слились усилия многих талантливых творцов. Нижинский блестяще передал страдания несчастной куклы, и эта роль стала его любимой. Каким-то чудесным образом танцовщик, блиставший в золоте и парче в «Шехерезаде» и в «Павильоне Армиды», перевоплотился в нескладную и нелепую куклу и сделал это гениально, с такой глубиной и страстью, что Сара Бернар во время спектакля воскликнула: «Я потрясена, я ошеломлена, я вижу величайшего в мире актера».
В театральном сезоне 1911 года несравненный Нижинский дважды добивался триумфального успеха. Фокин, под впечатлением от стихотворения французского поэта Теофиля Готье, поставил для талантливого танцовщика короткий балет «Видение розы». В этом балете Нижинский был одет в костюм, покрытый лепестками роз. С помощью грима предполагалось изобразить странного и прекрасного жука, рот которого напоминал лепесток розы. Так создавался образ видения розы, подаренной девушке на балу. В конце балета Вацлав бегом пересекал сцену по диагонали и улетал в левое окно в столь необыкновенном прыжке, что все видевшие его вспоминали об этом всю свою жизнь. Казалось, что танцовщик взлетал и скрывался в ночи. Жан Кокто, присутствовавший на первом спектакле, описывал это так: «Он исчезает в распахнутом окне в прыжке столь патетическом, отрицающем законы равновесия, столь изогнутом и высоком, что никогда теперь летучий запах розы не коснется меня без того, чтобы не вызвать с собой этот неизгладимый призрак».
Этот прыжок просто гипнотизировал зрителя; на следующих спектаклях люди толпились за кулисами, чтобы дождаться и увидеть его. Нижинский по сути изобрел двойной прыжок, исполняя который, он взлетал, стремительно закручиваясь вокруг своей оси, и приземлялся вертикально. Воспринимаемый зрителем как совершенный с легкостью, прыжок на самом деле требовал от исполнителя огромного напряжения, и Нижинского ловили четыре человека, в том числе его массажист Вильяме и верный слуга Василий. Они держали руки скрещенными, образуя подобие сети, куда Нижинский и приземлялся. Когда танцовщик стоял тяжело дыша под жаркими лучами света ламп с потемневшими от пота лепестками роз на костюме, Вильяме массировал его сердце, Василий прикладывал холодные полотенца к его ноздрям, а кто-то держал наготове чашку крепкого кофе.
Каким-то непостижимым образом после спектакля покров розовых лепестков всегда оказывался заметно поредевшим. Костюмерша провела специальное расследование и выяснила, что Василий продает лепестки роз как сувениры поклонницам Нижинского. На вырученные средства Василию удалось построить дом. Впоследствии труппа Дягилева называла его «Замок видения розы».
Достоевский однажды заметил, что характерной чертой ума русского человека является его способность ухватить целое по случайным разрозненным деталям. Напористый Дягилев обладал этим свойством в полной мере; он всегда умел воспринимать проблему в целом. Именно его неукротимая энергия, проницательность и воля помогали гениальным исполнителям творить на таком высоком уровне, который редко, а может быть, даже и никогда больше не был достигнут в истории. Сергей Дягилев обладал особым даром выявлять лучшее в других и заражать каждого своим энтузиазмом в реализации замысла. «Под его руководством любая работа приобретала очарование фантастического приключения», — писал Александр Бенуа.
Дягилев во всем старался добиться совершенства и, обладая умением многое видеть и делать одновременно, сам вникал в мельчайшие детали своих тщательно продуманных постановок. Он был вездесущ. Он заходил в мастерские художников и наблюдал за их работой, следил за изготовлением костюмов, изучал партитуры и присутствовал на репетициях оркестра. Он ежедневно смотрел, как идут занятия и репетиции танцоров. Карсавина с благоговением писала: «Однажды я увидела выступление японского артиста, демонстрировавшего свое умение сосредоточиться одновременно на четырех предметах, но он меня ничуть не поразил: мне доводилось видеть за работой Дягилева». Блеск и элегантность, отличавшие русский балет, были порождением его взыскательного вкуса и всевидящего ока, ибо именно он и он один принимал окончательные решения. Артисты говорили, что они танцевали только для него и только его одобрение имело для них значение.
Дягилев всегда был личностью противоречивой. В России высший свет никогда не понимал его. В первые годы создания им своей антрепризы многие считали Дягилева шарлатаном, извращавшим истинный смысл искусства, и отказывались поддерживать его. Но железная воля никогда не позволяла Дягилеву остановиться перед препятствием, и благодаря этому на протяжении более чем двадцати лет ему удавалось реализовывать свои проекты. Властный характер Дягилева, часто проявлявшийся в разделении им людей на объекты и субъекты, создал ему немало врагов. Но благодаря неотразимому обаянию и дипломатическим способностям ему каждый раз удавалось заполучить все, чего он страстно желал. В труппе было немало размолвок и скандалов, но ради успеха спектакля Дягилев всегда был готов сделать нечто гасящее недовольство, и ссоры обычно заканчивались, по словам Карсавиной, типично по-русски — примирением, слезами, рыданиями, объятиями, праздником. Однажды Дягилев пять часов подряд говорил по телефону, убеждая Фокина вернуться в балетную труппу после ссоры.
Дягилева нельзя назвать импресарио в полном смысле этого слова, так как он никогда не предпринимал ничего только ради своей собственной выгоды; он всегда трудился из любви к искусству. Все, что он создал, он создавал, чтобы доставить удовлетворение себе и своим друзьям. С барственным видом Дягилев представлял спектакли труппы так, будто он был хозяином театра, а исполнители — его собственностью. Он всегда приступал к осуществлению своих замыслов, будь то художественные выставки или балеты, когда на его банковском счету еще не было ни копейки. Но из-за своей одержимости красотой и страсти к роскоши он тратил огромные суммы на достижение цели. Пачки балерин для балета «Сильфиды» выбрасывались после каждого спектакля; трико для танцовщиков специально заказывали в Париже; целые ящики балетных туфель привозили из Милана. Его меценаты всегда теряли свои деньги, и все же они оставались удовлетворенными тем, что сделал Дягилев, и гордились своей сопричастностью его проектам. Все деньги, заработанные в одном успешном предприятии, сразу же вкладывались в следующее, и если постановки оказывались неудачными, как это иногда случалось, Дягилев не терял самообладания. «Успех постановки непредсказуем, — повторял он, — меня волнует только уровень мастерства».
Он никогда не вел учета расходов, и хотя через руки Дягилева проходили колоссальные суммы, он никогда не использовал их в собственных интересах. Дягилев хорошо платил своим балеринам и танцовщикам. Многим из них к концу карьеры удавалось скопить вполне приличные суммы в банках. У самого же Дягилева даже не было собственной машины, и хотя он всегда выглядел элегантным в цилиндре и пальто с бобровым воротником, при ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что его брюки слегка потерты, а ботинки — поношены. «Со всего этого я имею только, — однажды сказал он, — возможность жить в лучших отелях и собственное кресло на спектаклях русского балета».
Со дня создания собственной труппы и вплоть до смерти в 1929 году, у Дягилева не было своего дома; он жил в разных гостиничных номерах, всегда загроможденных полураспакованными чемоданами. Столы его были завалены письмами, программами спектаклей и множеством папок с бумагами; холсты и рисунки кипами лежали на всех стульях и вдоль стен. Дягилев терпеть не мог рано вставать и предпочитал, чтобы завтрак ему подавали в постель и чтобы плотно задернутые шторы не пропускали лучей солнца. В то время он прочитывал отчеты своих секретарей и разговаривал одновременно по нескольким телефонам, стараясь не упустить бесчисленное множество деталей каждой постановки и выполнить тысячи обязательств, которые он давал в никогда не прекращавшемся процессе поиска денег.
Обедал он поздно, в Париже чаще всего у Ларю, где обычно сидел за столиком с Бакстом, Александром Бенуа и двумя-тремя другими приятелями-художниками. Нижинский молчал и слушал собеседников, Бакст непрестанно делал наброски на меню, салфетках, клочках бумаги.
Несмотря на долгие годы, проведенные заграницей, Дягилев искренне и глубоко любил Россию, оставаясь чисто русским и сохраняя верность кумирам своей юности. До самой смерти он продолжал утверждать: «Чайковский — гений, не до конца понятый в Европе». Как это свойственно русским, он очень опасался «сглазить» успех; Дягилев был чрезвычайно суеверен. Он не позволял никому класть шляпу на кровать («это сулит несчастье»), боялся заразы и многие годы отказывался путешествовать на пароходах, так как когда-то гадалка предсказала ему смерть на воде.