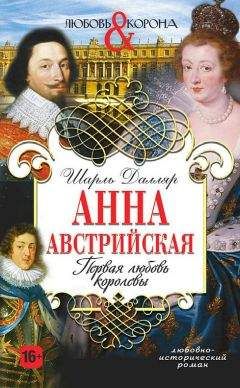Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
В «Эгмонте» заявили о себе и новые тенденции в области формы: пьеса написана, кажется, целиком в штюрмерской манере – импульсивной, порывистой прозой, но эту прозу пронизывает лиризм, музыкальная гармония, особенный ритм, который превращает прозу, особенно в финале, в сильно ритмизованную. Не случайно сама музыка, как героиня пьесы, выходит на авансцену, сменяя слова героя. Авторская ремарка гласит: «Когда он идет к двери, навстречу стражникам, занавес падает, вступает музыка и завершает пьесу победной симфонией». Внутреннюю музыкальность трагедии глубоко ощутил Людвиг ван Бетховен, написавший гениальную музыку к «Эгмонту» (1809–1810), исполненную необычайной духовной мощи.
Своеобразным манифестом «веймарского классицизма» и одним из совершеннейших по форме творений Гёте стала «Ифигения в Тавриде» («Iphigenie auf Tauris», 1786; опубл. 1787), самая классицистическая из его трагедий. Знаменательно, что «Ифигения» первоначально была написана прозой, но, взяв рукопись в Италию, Гёте переписал ее стихами. Именно в этом произведении, в самом его языке и стиле, воплотился новый идеал Гёте – «благородная простота и спокойное величие». Это едва ли не единственная вещь великого мастера, в которой он прямо обращается к античному сюжету. Кажется, самый дух эллинского искусства, дух Софокла и Еврипида, возродился в гётевской «Ифигении». Однако, обращаясь к античности, Гёте ставит в трагедии вопросы, которые глубоко волнуют его в данный момент, и прежде всего – вопрос о путях преобразования мира. Полностью отказываясь от штюрмерского бунтарства, поэт видит этот путь в духовном обновлении человека. Гуманность, благородство и красота спасут мир – таков генеральный вывод трагедии.
Гёте не случайно избрал один из самых жестоких и кровавых греческих мифов – о потомках Тантала, о роде Танталидов – Пелопидов – Атридов, о родовом проклятье, которое переходит из поколения в поколение, о том, как одна кровь влечет за собой другую, как даже справедливое возмездие превращается в преступление. Сама история этого рода символизирует неразумие и абсурдность мира. Этому кровавому хаосу противостоит Ифигения – ее ясный разум, ее благородная воля.
Некогда она сама стала жертвой, хотя и добровольной: она согласилась на то, чтобы ее родной отец, Агамемнон, принес ее в жертву богине Артемиде (Диане) ради попутного ветра ахейским героям. Богиня, восхищенная самоотверженностью девушки, заменила ее на жертвеннике ланью и тайно перенесла в Тавриду (на Крымский полуостров), в свой храм. Ифигения отвергает всяческое насилие и кровопролитие. Так, она добивается отмены варварского обычая приносить в жертву Артемиде всех чужеземцев в царстве Фоанта. Ифигения верит в благость богов и изначальную доброту человека. Она размышляет над проклятьем, висящим над ее родом, над тем, как прервать цепь кровавых преступлений. Гёте подчеркивает, что его героиня живет по принципиально иным законам – законам высшей человечности. Она уже давно мысленно простила своего отца, согласившегося пожертвовать ею во имя похода на Трою. Ифигения еще не знает, что за нее отомстила мать, Клитемнестра, убившая Агамемнона, а ее брат, Орест, мстя за отца, убил мать (вновь одна кровь повлекла за собой другую).
Гёте строит свою трагедию с мастерством, ничуть не меньшим, чем у античных трагедиографов и великих французских классицистов. При всей кажущейся «недейственности», при отсутствии внешнего действия (как и положено по строгим правилам классицизма), пьеса внутренне глубоко драматична и динамична. «Нерв» трагедии держится на все усиливающейся тяжести нравственных испытаний, обрушивающихся на Ифигению, на постепенном «узнании» страшной истины (как в «Царе Эдипе» Софокла), на смене душевных состояний героини. Перед Ифигенией дилемма: стать женой царя Фоанта, давшего ей приют, или освятить казнь двух пойманных чужеземцев, возродить кровавый обычай (этого требует Фоант в случае отказа). Захваченные – Пилад и Орест – открывают Ифигении те страшные события, которые произошли на ее родине (первый рассказывает об убийстве Агамемнона, второй – Клитемнестры). Она заново переживает всю трагедию своей семьи. И новое потрясающее ее открытие: в одном из чужеземцев она узнает своего брата. Теперь участь его в ее руках.
Ореста терзают Эринии, символизирующие бессонную, грызущую его совесть. Сознавая бесчеловечность совершенного им преступления, он желает одного – умереть. Его разум помрачен, он не может (или не хочет) узнать Ифигению, а узнав – просит смерти от ее руки. Ифигения решает спасти брата и физически, и духовно. Своей человечностью, своей чистой любовью, своей самоотверженностью она возрождает Ореста к жизни. Отрицая любое коварство и насилие, Ифигения открывает царю Фоанту хитроумный план Пилада и смело требует от царя отпустить их на родину. При этом она обращается прежде всего к его чувствам, к его сердцу: «Не рассуждай, а сердцу покорись. //…Государь! Не часто // Дается людям повод для таких // Высоких дел! Спеши творить добро!» (перевод Н. Вильмонта). Нравственный максимализм, благородство, высокая человечность Ифигении одерживают победу. Духовная красота и моральное совершенство спасают героев, преображают их. Точно так же совершенное искусство, возвышающее душу над убожеством обыденной жизни, видится Гёте как средство преодоления безобразия реальности, как истинный путь к неразрывно связанным свободе и красоте.
Нравственный максимализм, духовную мощь и красоту как важнейшие качества человека, и прежде всего художника, Гёте утверждает и в трагедии (или драматической поэме) «Торквато Тассо» («Torquato Tasso», 1786), о которой он сказал: «…кость от костей моих и плоть от плоти моей»[341]. В судьбе великого итальянского поэта, жившего в XVI в. при дворе герцога Феррарского, Гёте увидел много родственного своей судьбе. Он говорил: «Передо мной была жизнь Тассо и моя собственная жизнь; когдя я слил воедино этих двоих со всеми их свойствами, во мне возник образ Тассо, которому я, для прозаического контраста, противопоставил Антонио, – кстати сказать, и для него у меня имелось достаточно образцов. Что касается придворных, житейских и любовных отношений, то, что в Веймаре, что в Ферраре, они мало чем разнились…»[342]
В трагедии Тассо, не умеющего приспосабливаться и угождать, мечтательного, вспыльчивого и потому легко принимаемого за сумасшедшего, Гёте увидел парадигму судьбы художника вообще – художника, не умеющего изменять самому себе и своему искусству, верящего в его высокое предназначение. Поэт демонстрирует, что мир творчества и мир политических интриг несовместимы. Заточение Тассо, признанного невменяемым (возможно, это был способ расправиться с неугодным поэтом), – отражение несвободы художника в обществе. Но хуже всяческих заточений для Тассо – отказаться от верности своему «я», смириться, стать как все. На совет здравомыслящего Антонио – «не уступай себе», т. е. своим эмоциям, своему гневу, – потрясенный Тассо отвечает, что ему остается одно: «…мелодиями песен // Оплакивать всю горя глубину: // И если человек в страданьях нем, // Мне Бог дает поведать, как я стражду» (перевод С. Соловьева).
В 1788 г. Гёте вернулся в Веймар, по его собственным словам, «из богатой формами Италии… в бесформенную Германию, переменив радостное небо на угрюмое…». Он с горечью осознает, что почти никто не понимает его: «…друзья, вместо того чтобы подбодрить меня и снова со мной сблизиться, довели меня до отчаяния. Мое увлечение далекими, почти неизвестными им предметами, мои страдания, мои сожаления о покинутом они восприняли как обиду для себя, никто не сочувствовал мне, никто не понимал мою речь. В этом мучительном состоянии меня охватила растерянность, я лишился слишком многого, чему мои внешние чувства должны были найти замену; однако мой дух пробудился и стремился сохранить свою цельность». Стремясь сохранить эту цельность, не утратить в себе художника, Гёте отказывается от всякой административной деятельности и целиком отдается творчеству.
Еще в Италии Гёте задумал цикл любовных элегий в духе великих римских элегиков – Тибулла, Проперция, Овидия. Теперь же, после возвращения на родину, он получает дополнительный стимул от самой жизни: поэт полюбил простую работницу веймарской фабрики цветов Кристиану Вульпиус, которая стала его гражданской женой – в соответствии с законами сердца и природы и вопреки установлениям светского общества (только в 1806 г. Гёте обвенчается с Кристианой, чтобы их дети стали его официальными наследниками). В «Римских элегиях» («Elegien. Roma», позднее – «Römische Elegien», 1789) поэт бросает дерзкий вызов высшему свету и всем политиканам, объявляя, что отныне его укрытие – «держава Эрота»:
Чтите, кого вам угодно, а я в надежном укрытье,
Дамы и вы, господа, высшего общества цвет…
С вами также прощусь я, большого и малого круга
Люди, чья тупость меня часто вгоняла в тоску.
Политиканы бесцельные, вторьте все тем же сужденьям,
Что по Европе за мной в ярой погоне прошли…
Ныне ж не скоро меня разыщут в приюте, который
Дал мне в державе своей князь-покровитель Эрот.
Ориентируясь прежде всего на страстного, импульсивного и одновременно очень гармоничного Проперция, поэт Нового времени прославляет физическую и духовную красоту человека, полнее всего раскрывающуюся в любви: «Рим! О тебе говорят: “Ты мир”. Но любовь отнимите, // Мир без любви – не мир, Рим без любви – не Рим». С большой поэтической силой Гёте славит любовь в гармоничном единстве духовного и физического начал: