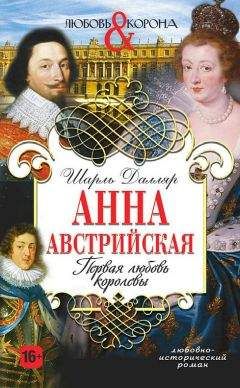Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Божественное же в человеке – великое нравственное чувство, данное ему, способность любить, творить добро, верить и стремиться к вечности:
Прав будь, человек,
Милостив и добр:
Тем лишь одним
Отличаем он
От всех существ,
Нам известных.
…Человек один
Может невозможное:
Он различает,
Судит и рядит,
Он лишь минуте
Сообщает вечность.
Существенно изменился подход Гёте и к любимому им балладному жанру. В сущности, поэт обновляет литературную балладу, расширяя ее тематические рамки: если прежде его баллады были посвящены любви, то теперь благодаря особым возможностям этого жанра он исследует роковые загадки бытия, непостижимые тайны природы. Мистическое, непостижимое разумом в балладах «Рыбак» («Der Fischer», 1778), «Песня эльфов» (1780), «Лесной царь» («Erlkönig», 1782) в какой-то мере предвосхищает появление готической преромантической, а затем романтической баллады. Примечательно также и то, что, создавая абсолютную иллюзию фольклорности сюжетов своих баллад, Гёте веймарского периода практически всегда создает свои собственные балладные коллизии и сюжеты, и притом такие, что народ их принимает как свои (нечто подобное произойдет со знаменитой балладой немецкого романтика К. Брентано «Лорелея»).
Одним из самых прославленных произведений Гёте стала баллада «Лесной царь» (название в оригинале – Erlkönig – можно точнее перевести как «Ольховый король»), в которой мастерски воссоздана мистическая атмосфера ночи, те страхи и ужасы, которые переживает человек, осознавая роковую власть над ним непостижимого, иррационального, разлитого в природе. Стихотворение построено на контрасте поначалу смутной, но все более нарастающей тревоги ребенка, ощущающего младенческой душой властный и грозный зов Лесного царя, и неведения трезвомыслящего взрослого, отца, поначалу не чувствующего никакой угрозы:
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in den Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du bang dein Gesicht? —
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron‘ und Schweif? —
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.
«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?»
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой».
«О нет, то белеет туман над водой».
Первая и последняя строфы баллады, которые выполняют своего рода роль экспозиции и развязки и в которых рассказчиком является автор, обрамляют основное действие баллады, поданное через непременный балладный диалог, придающий жанру особую драматичность. В диалог между отцом и сыном вторгается голос Лесного царя, причем только ребенок слышит этот голос, все более властно влекущий его к себе, забирающий по капле его жизнь. При этом добавляется новый контраст – между красочностью картин в устах Лесного царя и тем ужасом, которым они оборачиваются для ребенка:
«Дитя, оглянися, младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».
«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит».
«О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».
…«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».
Тоска и ужас ребенка наконец-то сполна передаются и отцу. Но все его попытки спасти сына, уйти от судьбы, оказываются бесплодными:
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.
Перевод В. А. Жуковского навсегда вошел в историю русской литературы. В нем мастерски передана тревожная, напряженная атмосфера гётевского стихотворения, его необычайная динамика. Однако Жуковский перевел балладу правильным амфибрахием, не сохранив нервный, пульсирующий дольник Гёте, как нельзя лучше соответствующий лихорадочному ритму скачки и нарастающей тревоге. В свое время, сравнив оригинал баллады Гёте и перевод Жуковского, М. И. Цветаева пришла к выводу, что это два различных «Лесных царя», два самодостаточных лирических шедевра. Однако, безусловно, второй из них не родился бы без первого.
В наибольшей степени новые веяния в лирике Гёте первого веймарского десятилетия очевидны в двух его небольших стихотворениях, связанных со столь любимым им мотивом странничества и известных как две «Ночные песни странника». Первая из них и родилась под таким названием – «Ночная песня странника» («Wandrers Nachtlied», 1776):
Ты, что с неба и вполне
Все страданья укрощаешь
И несчастного вдвойне
Вдвое счастьем наполняешь, —
Ах, к чему вся скорбь и радость!
Истомил меня мой путь!
Мира сладость,
Низойди в больную грудь!
Новые настроения очевидны, особенно если сравнить это стихотворение со штюрмерской «Песнью странника в бурю»: перед нами не человек, стремящийся к радостному слиянию с бурей, бросающий вызов всему миру, но предельно усталый и больной, жаждущий исцеления, чающий небесной гармонии. Бурный порыв уступает место кроткой молитве, жажде гармоничного слияния с миром природы. И в этом смысле особенно показательна «Ночная песня странника II» («Wandrers Nachtlied II», 1780).
Гёте любил созерцать природу и искать в ней вдохновения и отдохновения, блуждая по полям и лесам, взбираясь на холмы и горные вершины, странствуя (эту страсть он вполне передал своим Вертеру и Фаусту). Мотив странничества имеет концептуально важный и многомерный смысл в поэзии Гёте и проходит как лейтмотив через все его творчество. Один из аспектов этого многомерного смысла – спасение от пошлости и суеты обыденной жизни. Так, 6 сентября 1780 г., поднявшись на вершину Кикельхан близ Ильменау, поэт написал Шарлотте фон Штайн: «Здесь, на Кикельхане, самой высокой вершине всей округи, которая на более звучном наречии называлась бы “Алектрюо-галлонакс” (греческая калька названия горы, по-немецки означающего “петух”. – Г. С.), я и заночевал, дабы избежать городской суеты, сутолоки, жалоб, прошений, всей этой неизбывной людской суеты»[330]. И в тот же день (вернее, вечер), 6 сентября 1780 г., поэт карандашом написал на деревянной стене охотничьей сторожки на Кикельхане восемь стихотворных строк:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
(«Над всеми горными вершинами – покой, // Во всех верхушках деревьев // Ты ощутишь // Едва ли какое-либо дуновение [дыхание]; // Птички молчат в лесу. // Только подожди, скоро // Ты отдохнешь [успокоишься] тоже». – Подстрочный перевод наш. – Г. С.)
Это стихотворение хорошо знакомо каждому человеку, думающему и говорящему по-русски, со школьной скамьи как лермонтовские «Горные вершины»:
Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного
Отдохнешь и ты!
И хотя текст великого русского поэта конгениален немецкому оригиналу, во многом созвучен его духу и по праву украшает десятитомное собрание сочинений Гёте на русском языке, его нельзя считать переводом в полном смысле слова, хотя бы потому, что М. Ю. Лермонтов не сохранил гётевский неравнострочный дольник (его стихотворение написано трехстопным хореем). Гораздо точнее ритмически стихотворение Гёте перевел русский поэт-символист И. Анненский:
Над высью горной Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет…
О, подожди!.. Мгновенье —
Тишь и тебя… возьмет.
Теперь уже невозможно установить, как выглядел автограф, начертанный Гёте на стене хижины, ибо самой хижины давно не существует: она сгорела в 1870 г. Однако за год до этого была сделана фотография, на которой явственно заметны поправки и подновления, которые претерпела надпись за 90 лет. Странно, но только в 1815 г., через 35 лет после создания стихотворения, Гёте опубликовал его. В своем лирическом собрании он поставил его вслед за «Ночной песней странника» и дал ему название «Другая», т. е. «Другая [вторая] ночная песня странника». Впоследствии, уже после смерти поэта, «Другая» стала именоваться «Ночная песня странника II», а чаще – просто «Ночная песня странника», как будто первой и не существовало. В сознании читателей вторая начисто вытеснила первую. Результаты опроса, проведенного в Германии в 1982 г., в связи со 150-летием со дня смерти Гёте, показали, что для немцев «Другая» – самое известное стихотворение поэта. Немецкий литературовед К. О. Конради пишет: «Пожалуй, ни об одном из поэтических произведений Гёте не говорилось так много, как об этом небольшом стихотворении, ни одно не пародировали столь часто, как эту рифмованную сентенцию из восьми строк. История восприятия и истолкования этого стихотворения могла бы составить отдельную книгу…»[331]