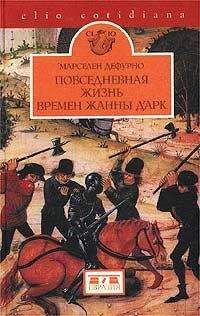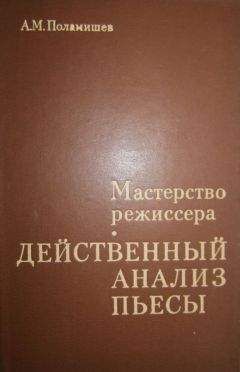Марселен Дефурно - Повседневная жизнь Испании Золотого века
Но как говорит Лопе де Вега, «мне было бы очень жаль персонажей, изображенных на коврах дворца, если бы они могли чувствовать». В этом величественном антураже в действительности совершались всегда неизменные и почти механические действия, свойственные жизни двора и подчиненные самому строгому этикету. «Нигде более нет государя, который жил бы, как король Испании, — пишет советник Берто, — все его действия и все его занятия всегда одни и те же и совершаются день за днем настолько одинаковым образом, что кажется, будто король знает, что будет делать всю свою жизнь». Однако этот этикет не был придуман специально для испанского двора; по его правилам жили при дворе герцогов Бургундии XV века — Филиппа Доброго и Карла Смелого, потомок которых, Карл V, ввел его в стране, в которую его призвали править. Но, возможно, император, «самый великий мастер церемоний всех времен», как о нем говорили, еще больше ужесточил строгость этого этикета. Во всяком случае, это было одним из самых ярких впечатлений путешественников. Если верить мадам д’Ольнуа, сакрально-священное почтение к этикету спровоцировало смерть Филиппа III: однажды зимним днем король, сидя за своим письменным столом, почувствовал неудобство из-за запаха от очага, расположенного рядом с ним, но ни один из присутствовавших дворян не захотел взять на себя ответственность за удаление очага, чтобы не посягнуть таким образом на функции, выполнявшиеся герцогом Уседой, «отвечавшим за тело» короля и отсутствовавшим в тот момент во дворце; ближайшей ночью у короля началась сильная лихорадка, сопровождавшаяся рожистым воспалением, от которой он умер через несколько дней.{55}
Если Филипп III умер от осложнения, вызванного рожистым воспалением, то весьма вероятно, что история с очагом вымышлена; однако кажется правдоподобным, что мадам д’Ольнуа узнала эти подробности, как она сама утверждает, от некоего испанца, желавшего обратить ее внимание на безжалостную тиранию этикета, правившего двором и сделавшего из монарха почти священную особу, которая должна была быть — или, по крайней мере, казаться — неподверженной превратностям бытия. Однако Филипп IV, а вовсе не его отец, особенно много сделал для того, чтобы придать королевскому величию священный характер, как будто желая своим публичным поведением компенсировать распущенность собственной частной жизни. «Он придавал этому такое значение, — говорит Берто, — что действовал и ходил с видом ожившей статуи. Его приближенные говорили, что, когда они разговаривали с ним, он никогда не менял ни выражения лица, ни позы. Он принимал их, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица, и из всех его частей тела двигались только губы и язык».
Еще больше, чем государи, с детства формировавшиеся в чопорной атмосфере двора, чувствовали себя скованными узами этикета королевы иностранного происхождения, тем более что их камергеры строго следили за соблюдением ими всех его требований. Известно, как это описал Виктор Гюго в драме «Рюи Блаз», использовав истории, рассказанные мадам д’Ольнуа. Помимо того, что двор королевы включал в себя, как и двор короля, старшего мажордома и менинов (юных пажей — отпрысков наиболее знатных фамилий королевства), она жила в постоянном окружении знатных дам, и, так как даже тень подозрения не могла коснуться королевы, ни один мужчина, кроме короля, не мог провести ночь во дворце.
Король и королева обедали порознь, кроме исключительных случаев, например празднования свадьбы одной из придворных дам, когда та приглашалась за стол правителей страны. Раз в неделю придворным и знатным особам, удостоившимся такой чести, разрешалось присутствовать на трапезе монарха, распорядок которой напоминал спектакль, что потом будет заимствовано при французском дворе, сначала в Лувре, а затем в Версале, отчасти под влиянием двух королев, прибывших во Францию из Мадрида, — Анны Австрийской и Марии-Терезии. Преклонив колено, интендант (aposentador) дворца ждал, когда его повелитель сядет за стол. После того как прелат самого высокого ранга, служивший при дворе, благословлял пищу, король садился; рядом с ним стоял дежурный мажордом, державший в руке жезл — знак своего достоинства. Затем к своим обязанностям приступали стольничий, раздатчик хлеба и виночерпий, действия которых тоже строго подчинялись протоколу: всякий раз, как король желал пить, виночерпий шел за кубком, стоявшим на серванте, и открывал его, чтобы показать врачу, присутствовавшему на королевской трапезе; затем, закрыв кубок, он в сопровождении двух служителей и привратника дворца относил его королю и опускался на колено, передавая его монарху. Когда повелитель выпивал вино, пустой кубок возвращали на сервант, а раздатчик хлеба приносил салфетку, которой король вытирал губы. Похожая церемония сопровождала подачу каждого блюда. По завершении трапезы и после того, как королевский духовник воздавал благодарение Богу, подходил стольничий, чтобы убрать крошки, которые могли упасть на одежду короля.
Трапеза королевы проходила не менее торжественно. Брюнель, удостоившийся чести сидеть в углу залы во время обеда королевы Марии-Анны Австрийской, второй жены Филиппа IV, писал: «Напротив (королевы) сидела дама, выполнявшая обязанности стольничего — ставившая перед ней все подаваемые ей блюда. По обеим сторонам от королевы сидели две другие дамы: та, что справа, пробовала напитки; та, что слева, держала блюдце и салфетку. Королева очень мало пила, но ела довольно хорошо. Ей подавали множество блюд, но не очень вкусных, насколько можно было судить по их виду. У нее есть шут, говорящий почти без умолку, старающийся рассмешить ее и развлечь своей болтовней».
Тем не менее в этой жизни, похожей на театральное представление, были мгновения, когда в стороне от чужих взглядов, вынуждавших строго соблюдать придворный ритуал, суверены возвращались, так сказать, к обычной человеческой жизни, о чем свидетельствует рассказ некоего отца-иезуита, поведавшего одному из своих собратьев о визите в их монастырь Филиппа IV и Изабеллы Бурбонской в сопровождении маленькой инфанты, которая должна была впоследствии стать королевой Франции Марией-Терезией: «Она шла со своим братом, в камзоле из красной шерсти, такая крошечная, светленькая и беленькая, что была похожа на младенца Христа. Ее родители, король и королева, говорили ей: „Иди же, малышка“, а она, в свете множества огней и среди богатого убранства, останавливалась, изумленная, и ее мать буквально замирала от восхищения, глядя на нее… Один из монахов попросил у Филиппа IV разрешения подарить инфанте маленький сувенир. „Пожалуйста, — ответил король, — подарите ей, что вам угодно“. Малышка сразу же подошла — чтобы, как поняли все, взять подарок, — и ей вручили роскошный ковчег, приведший всех в изумление, а девочка, еще более оживленная и веселая, чем в момент прибытия, была очень мила, рассматривая его. Мать сказала ей: „Ответь же что-нибудь святому отцу“. И она сказала: „Храни Вас Господь“… Тысяча благословений последовала ей в ответ, а ее отец, дабы не расхохотаться, спрятал лицо».{56}
Это боязнь монарха, даже когда он выступает в роли отца, утратить неизменную серьезность, подобающую королевскому величеству, весьма показательна. Она заставляет еще больше удивляться некоторым аспектам придворной жизни, вступающим в противоречие с установленным порядком. Самый поразительный пример — место, которое занимали шуты в окружении правителя, место, о важности которого свидетельствовало не только высокое жалованье, которое получали шуты, но еще более тот факт, что Филипп IV велел своему придворному художнику Веласкесу увековечить черты своего шута, как увековечивались образы членов королевской фамилии. Шуты могли фамильярничать с королем, и при этом строгом дворе, где обязанности каждого были детально определены, они находились всюду — в приемных, в королевских покоях, в салонах для приемов, и повсюду их роль «человека для развлечения» (так их именовали в инвентарных списках дворца) состояла в том, чтобы смешить: своим физическим уродством больного безобразного карлика, подчеркивавшимся ливреей, которую они носили; контрастом между человеческим убожеством, которое они представляли, и именами, которыми их награждали (один из шутов Филиппа IV носил имя победителя при Лепанто, Дона Хуана Австрийского); своей нескончаемой болтовней, сдобренной шутками, более или менее отвечавшими хорошему вкусу и порой разбивавшими жесткую оболочку серьезности, окутывавшую короля и его приближенных. Антуан де Брюнель сообщает, что королева Мария-Анна, совсем юная и недавно прибывшая из Германии, не могла удержаться от смеха, видя кривляния и слыша смешные речи одного из шутов. «Ей дали понять, что вести себя подобным образом королеве Испании не годится, что надо выглядеть более серьезной, на что она удивленно ответила, что не сможет вести себя иначе, если от нее не удалят этого человека, и что зря показали ей его, если не хотели, чтобы она смеялась».{57}