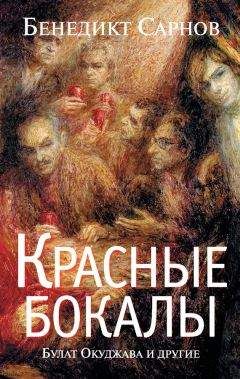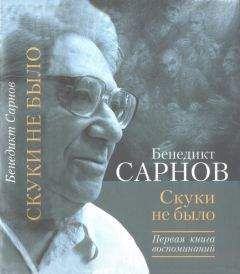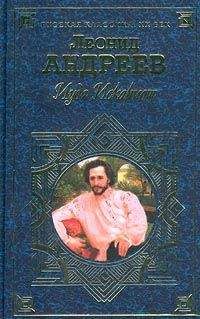Бенедикт Сарнов - Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко.
...погиб не тот здоровый, вдохновенный Пушкин, каким мы его обычно представляем себе, а погиб больной, крайне утомленный и неврастеничный человек, который сам искал и хотел смерти. Уже начиная с конца 1833 года жизнь Пушкина стремительно идет к концу. Можно вспомнить слова сестры поэта — Павлищевой: «Если бы пуля Дантеса не прервала его жизни, то он немногим бы пережил сорокалетний возраст»...
Эта смерть была не случайна.
Целый ряд противоречий, политических и личных, двойственное отношение к своему социальному положению, запутанные материальные дела и почти невозможность изменить жизнь — покинуть столицу без того, чтобы не поссориться со двором, — все это расшатало силы поэта и привело его к такому физическому состоянию, при котором поэт стал искать выхода в смерти.
В двух случаях Пушкин продолжал бы жить. Первое — Пушкин отбрасывает политические колебания и, как, скажем, Гёте, делается своим человеком при дворе. Второе — Пушкин порывает со двором и идет в оппозицию.
Может показаться, что оба эти варианта Зощенко считает равно приемлемыми, что любой выбор спас бы Пушкина от гибели, защитил от надвигающейся трагической развязки. Однако чем дальше мы вчитываемся в ход его рассуждений, тем яснее становится, что первый вариант («Пушкин отбрасывает политические колебания и, как... Гёте, делается своим человеком при дворе») явно представляется автору «Возвращенной молодости» более предпочтительным.
Пушкин, по мнению Зощенко, совершил ужасную, роковую ошибку. Ему следовало сделать «ставку на нормального человека», ориентировать себя на благонамеренность, на конформизм. Выкинуть всю двойственность, которая несомненно расшатывала не только его здоровье, но и личность. И тогда он не только дожил бы до глубокой старости, но и наверняка сохранил бы свои творческие способности, то есть написал бы еще много высокохудожественных произведений.
Но легко сказать — «выкинуть всю двойственность». А как это сделать?
Гёте поступал, например, таким образом:
Признавая, что хотя бы отвращение к шуму есть не только физическое, но и психическое состояние, он стал преодолевать это отвращение несколько, казалось бы, странным, но несомненно верным путем. Он приходил в казармы, где бьют в барабан, и подолгу заставлял себя слушать этот шум. Иной раз он, будучи штатским человеком, шагал вместе с воинскими частями, заставляя себя маршировать под барабанный бой.
Предположим, что Пушкин мог бы добиться таких же блестящих результатов. Тем более что он, кажется, как раз не питал особого отвращения к военной музыке и барабанному бою. Скорее, напротив. Но даже если бы таковое и было ему свойственно, он, видимо, преодолел бы его сравнительно легко. Однако мог ли он преодолеть свое отвращение к кургузому камер-юнкерскому мундиру, этому символу несвободы, символу его зависимого, полулакейского состояния? Мог ли он победить свою ненависть к рабству? Задушить в себе живое, непобедимое стремление к покою и воле?
Зощенко полагал, что мог.
При сложной психике, не совсем здоровой и не совсем нормальной, исцеление не приходит само по себе... мысли и воспоминания не выводят мозг из постоянной работы и из постоянного беспокойства. Причем нередко эти мысли, в силу болезненного состояния, слишком высоко переоцениваются, и, стало быть, избавление от них затрудняется.
Как же избавиться от этих воспоминаний? Как сделать, чтобы эти воспоминания перестали тревожить человека? Это сделать можно.
Эти мысли и воспоминания физическим путем убрать нельзя. Их можно убрать лишь единственным способом — дать им иную оценку.
Есть такая замечательная фраза, сказанная Марком Аврелием:
«Измени свое мнение о тех вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них».
Что это значит? Это значит, что любую вещь, любое обстоятельство мы можем оценить по своему усмотрению и что нет какой-то абсолютной цены для каждой вещи.
Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают... Совет, мягко говоря, наивный. А по отношению к такому человеку, как Пушкин, даже и не совсем пристойный.
Однако следует признать, что Пушкин не вполне закрыл для себя этот путь. Он не только подумывал о такой возможности, но даже сделал в этом направлении кое-какие шаги:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова...
Вряд ли стоит ломиться в открытую дверь, доказывая, что свобода слова — вещь необыкновенно важная, а для писателя (не говоря уж о редакторе «Литературной газеты» и «Современника») — так даже прямо необходимая. Невозможность открыто выражать свое мнение в печати, необходимость применяться к жестокой николаевской цензуре... Мало сказать, что все это огорчало Пушкина. Это было одним из самых больших несчастий всей его жизни. И вот поди ж ты! Гласность, свобода слова, бесцензурная печать — оказывается, все это не более чем химеры. Как говорит Гамлет, — слова, слова, слова...
Неужели Зощенко был прав? Неужели Пушкин действительно мог изменить свое мнение обо всем, что его огорчало? Неужели человек и в самом деле способен по собственному произволу вдруг взять и произвести полную переоценку всех ценностей?
Выдвигая эту идею, Зощенко исходил из убеждения, что «нет абсолютной цены для каждой вещи». Иначе говоря, он полагал, что никакой прочной и незыблемой шкалы ценностей вообще не существует.
Пушкин так не мог. В крайнем случае он готов был поступиться внешней свободой, лишь бы сохранить свою тайную внутреннюю свободу.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья, –
Вот счастье! вот права...
Но беда в том, что и эти права так же недостижимы, так же недоступны для него, как и те, от которых он согласен отказаться.
Достаточно вспомнить известную историю, как Пушкин чуть было не поссорился с царем, узнав о перлюстрации его переписки с женой.
Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охладило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство а lа lettrе. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilite de familie) невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя...
В сердцах он даже было подал в отставку, но, узнав от Жуковского о гневе царя, дал задний ход.
Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали!
Не вдаваясь в объяснения, Пушкин пишет жене, что решился вдруг подать в отставку, потому что его хандра взяла. Но совершенно очевидно, что хандра была не причиной, а следствием. Причиной ссоры с царем было желание остаться самим собой, отстоять последние свои права.
Начиная с 1834 года в письмах Пушкина все время попадаются такие фразы: «Желчь волнует меня...», «От желчи здесь не убережешься...», «У меня решительно сплин...», «Желчь не унимается...», «Все дни болит голова...», «Начал много, но ни к чему нет охоты...», «Головная боль одолела меня...».
Эти письма написаны человеком, несомненно, больным, разбитым и страдающим неврастенией.
Эта болезнь развивалась и усиливалась со дня на день и привела поэта к желанию смерти.
(Возвращенная молодость)Зощенко не сомневался, что причиной этой постоянно терзающей поэта хандры была болезнь. С этим, пожалуй, можно согласиться, но с одной оговоркой. Это была не обычная болезнь, а та высокая болезнь, которая испокон веков отличала поэта от обывателя.
Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны... Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки еtс., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!» Врете, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы, — иначе...
(Александр Пушкин — Петру Вяземскому)Многие из тех, кто ощущал себя одержимым этой высокой болезнью, выражали те же чувства даже с еще большей страстью, с еще большей запальчивостью: