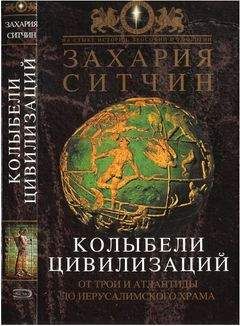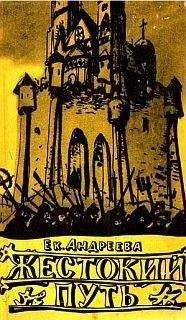Михаил Бахтин - Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса
109
В русском переводе Н. М. Любимова это передано так: «Все они – вертишейки, подслушейки, подглядуны, *, бесопослушники, сиречь наушники, вот она, их ученость». Адекватный перевод этого места, конечно, совершенно невозможен.
* Слово на букву «б».
110
Одна из таких гравюр, заимствованная из одной книги 1534 г., воспроизведена в монографии Г. Лота (Lote G. La vie et I’oeuvre de François Rabelais. Paris, 1938, p. 164–165, табл. VI).
111
У нас еще до сих пор живо выражение «последний крик моды» («dernier cri»).
112
См. о «криках Парижа» кн.: Franklin Alfred. Vie privée d’autrefois, I, L’Annonce et la Réclame, Paris, 1887; здесь показаны крики Парижа разных эпох. См. также: Kastner J. G. Les Voix de Paris, essai d’une histoire littéraire et musicale des cris populaires, Paris, 1857.
113
Например, во время карнавала в Кенигсберге в 1583 г. мясники изготовили колбасу весом в четыреста сорок фунтов, ее несли девяносто мясников. В 1601 г. колбаса весила уже девятьсот фунтов. Впрочем, и сегодня еще можно видеть грандиозные колбасы или кренделя – правда, бутафорские – в витринах колбасных и булочных.
114
Из раблезистов значение «криков Парижа» для романа Рабле отметил Л. Сенеан в своей замечательно богатой по материалу книге о языке Рабле. Однако Л. Сенеан не вскрывает всей полноты этого значения и ограничивается лишь указанием прямых аллюзий на эти «крики» в романе Рабле (см.: «La langue de Rabelais», t. 1, 1922, p. 275).
115
Об исторических изменениях речевых норм в отношении непристойности см.: Brunot Ferd. Histoire de la langue française, t. IV, гл. V, «L’honnêteté dans la langage».
116
Когда «Пасха господня» умерла,
Ей наследовал «Добрый день господень»,
Когда ж и «Добрый день господень» почил и умер,
На смену ему пришло «Черт меня побери».
А после его смерти мы услышали
«Честное слово благородного человека».
117
Рабле делает аллюзию на какую-то легенду, связывающую мученичество этого святого с печеными яблоками (снижающий карнавальный образ).
118
Это не полная травестия, а только травестирующая аллюзия. Подобного рода рискованные аллюзии весьма обычны в рекреационной литературе «жирных дней» (т. е. в гротескном реализме).
119
Они клянутся богом, его зубами, его головой,
Его телом, его животом, бородой и глазами;
Они хватают его за все места,
Так что он оказывается изрублен весь,
Как мясо на фарш для пирожков.
120
Sainéan L. L’influence et la réputation de Rabelais, v. II, p. 472.
121
Впрочем, и в высоком эпическом плане встречаются изображения битвы как пира, например в нашем «Слове о полку Игореве».
122
Эти два слова связаны в тексте самого Рабле: в четвертой книге, гл. XVI, фигурирует такое проклятие – «A tous les millions de diables qui te puissent anatomiser la cervelle et en faire des entommeures».
123
Сенека говорит об этом в «Отыквлении». Мы уже упоминали об этой замечательной сатурналиевской сатире о развенчании умершего короля и в момент смерти (он умирает во время акта испражнения), и после смерти в загробном царстве, где он превращается в «смешное страшилище», в жалкого шута, раба и проигравшегося игрока.
124
Осел был также одним из образов народно-праздничной системы средневековья, например, в «празднике осла».
125
В качестве параллельного высокого образа развенчания упомянем наш древний обряд предсмертного развенчания и пострига царей: при этом их переодевали в монашескую рясу, в которой они умирали. Всем известна пушкинская сцена предсмертного пострига и переодевания Бориса Годунова. Здесь почти полный параллелизм образов.
126
Отголоски этого сохраняются и в последующей литературе, особенно в той, которая связана с раблезианской линией, например, у Скаррона.
127
Такую же карнавальную пару мы встречаем и на «острове сутяг». Кроме краснорожего сутяги, которого выбрал брат Жан, здесь был также высокий и худой сутяга, который роптал на этот выбор.
128
Подобные комические пары – весьма древнее явление. Дитерих воспроизводит в своей книге «Pullcinella» комическое изображение хвастливого воина и его оруженосца на одной античной вазе из Нижней Италии (собрание Гамильтона). Сходство воина и оруженосца с фигурами Дон Кихота и Санчо поражающее (только обеим фигурам придан громадный фалл) (См.: Dieterich A. Pullcinella, S. 329).
129
Желтый и зеленый – это, по-видимому, «ливрейные» цвета дома де Баше.
130
В эротическом смысле употреблялось также и слово «кегли» (quille) и «играть в кегли». Все эти выражения, придающие удару, палке, кию, бубну и т. п. эротическое значение, очень часто встречаются и у современников Рабле, например, в уже упоминавшемся нами произведении «Triomphe de la dame Verolle».
131
Мотив превращения крови в вино мы находим и в «Дон Кихоте», именно – в эпизоде боя героя с винными бурдюками, которые он принимает за великанов. Еще более интересная разработка этого мотива есть в «Золотом осле» Апулея. Люций убивает у дверей дома людей, которых принимает за разбойников; он видит пролитую им кровь. Наутро его привлекают к суду за убийство. Ему угрожает смертная казнь. Но оказывается, что он стал жертвой веселой мистификации. Убитые – просто мехи с вином. Мрачный суд оборачивается сценой всеобщего веселого смеха.
132
В итальянском (не макароническом) произведении Фоленго «Orlandino» есть совершенно карнавальное описание турнира Карла Великого: рыцари скачут на ослах, мулах и коровах, вместо щитов у них корзины, вместо шлемов – кухонная посуда: ведра, котелки, кастрюли.
133
Все эти представители старой власти и старой правды, говоря словами К. Маркса, – лишь комедианты миропорядка, «действительные герои которого уже умерли» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 418). Народная смеховая культура воспринимает все их претензии (на незыблемость и вечность) в перспективе все сменяющего и все обновляющего времени.
134
См. кн. IV, гл. XIII.
135
В каноническом издании первых двух книг романа (изд. 1542 г.) Рабле вообще уничтожил все прямые аллюзии на Сорбонну, заменив самое слово «сорбоннист» словом «софист».
136
«Теологическая выпивка» и «теологическое вино» – хорошая выпивка (снижающая травестия).
137
В сущности, каждый праздничный день развенчивает и увенчивает, следовательно, имеет и своего короля, и королеву. См. этот мотив в «Декамероне», где на каждый день праздничных бесед избирается свой король и своя королева.
138
Две фигуры народного праздника «vendange» определили весь характер эпизода: фигура Bon-Temps определила его идею (конечная победа мира и всенародного благосостояния – избытка), а фигура его жены Mère Folle – фарсово-карнавальный стиль эпизода.
139
В своем свободном переводе этой книги Фишарт чрезвычайно усиливает момент праздничности, но освещает его в духе гробианизма. Грангузье страстный почитатель всех праздников, потому что на них полагается пировать и дурачиться. Дается длинное перечисление немецких праздников XVI века: праздник св. Мартина, масленица, праздник освящения церкви, ярмарка, крестины и др. Праздники заходят за праздники, так что весь годовой круг Грангузье состоит только из праздников. Для Фишарта-моралиста праздники – это обжорство и безделье. Подобное понимание и оценка праздников, конечно, глубоко противоречит раблезианскому использованию их. Впрочем, отношение самого Фишарта к ним двойственное.
140
Смешанное тело чудовища с сидящей на нем блудницей, в сущности, эквивалентно пожирающей-пожираемой-рожающей утробе «праздника убоя скота».
141
И античная сатирова драма была, как мы уже говорили, драмой тела и телесной жизни. Чудовища и великаны (гиганты) играли в ней, как известно, огромную роль.
142
См.: Sébilet Thomas. Art poёtique François, 1548 (переиздал F. Gaiffe. Paris, 1910).
143
«Prognostication des Laboureurs», переиздана A. de Montaiglon’ом в его «Recueil de poésies françaises de XVe et XVIe siècles», t. II.
144
Переиздана там же, т. IV. Возможно, что «Всеобщая прогностика» написана Рабле.
145
Там же, т. XIII.
146
Там же, т. XII.
147
Современный Рабле итальянский гуманист Николай Леоник, издавший диалог об игре в кости (Лион, 1532).
148
Это наше утверждение распространяется – с некоторыми оговорками – и на образы игры у Лермонтова («Маскарад», «Штосс и Лугин», «Казначейша», «Фаталист»). Особый характер носят образы игры у Достоевского («Игрок», «Подросток»).