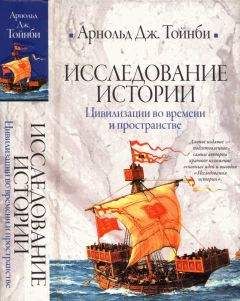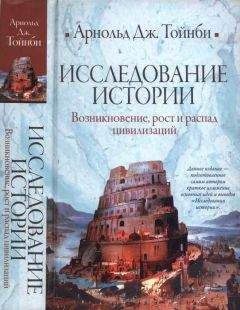Альбер Камю - Творчество и свобода: Статьи, эссе, записные книжки
Лагерь. Невежественный надзиратель измывается над интеллигентом. «Все книжки читаешь! Ты, значит, умник…» и т. д. В конце концов интеллигент просит прощения.
*
Людские лица искажены знанием (эти встречающиеся подчас лица тех, кто знает). Но иногда из-под шрамов проступает лицо отрока, благословляющего жизнь.
*
Близ них я не чувствовал ни бедности, ни лишений, ни унижения. Отчего не сказать прямо: я чувствовал и чувствую до сих пор свое благородство. Близ моей матери я чувствую, что принадлежу к благородному племени: к тем, кто ничему не завидует.
*
Я жил, не зная меры красоты: вечного хлеба.
*
Для большинства людей война означает конец одиночества. Для меня она — окончательное одиночество.
*
Один-единственный удар кинжала, стремительный, как молния, — совокупление быка целомудренно. Это совокупление божества. Не наслаждение, а ожог и священное самоуничтожение.
*
Вогезы. Из-за красного песчаника церкви и придорожные распятия цветом напоминают спекшуюся кровь. Вся кровь, пролитая завоевателями и владыками в этом краю, засохла на стенах его святилищ.
*
Мораль бесполезна: жизнь и есть мораль. Тому, кто не отдает всего, всего не получить.
*
Если тебе выпало счастье жить в мире ума, какое безрассудство — искать доступ в страшный, полный криков мир страсти.
*
Я люблю все или не люблю ничего. Значит, я не люблю ничего.
*
Конец Деяниры. Он убивает ее прилежно, постепенно (она постепенно таяла у него на глазах, и он следил за тем, как заострялись черты ее лица, с жуткой надеждой и мучительными всхлипами любви). Она умирает. Он находит другую, снова юную и прекрасную. Восхитительное чувство снова рождается в его сердце. «Я люблю тебя», — говорит он ей.
*
Духовные упражнения Святого Игнатия — чтобы не дремать во время молитвы.
*
Все могущество науки направлено сегодня на укрепление Государства. Ни одному ученому не пришло в голову использовать свои знания для защиты личности. Здесь, пожалуй, полезным оказалось бы франкмасонство.
*
Если бы наша эпоха была только трагична! Но она еще и гнусна. Вот отчего ей надо бросить обвинение — и даровать прощение.
*
I. Миф о Сизифе (абсурд.). — II. Миф о Прометее (бунт.). III. Миф о Немезиде.
*
Ж. де Местр: «Я не знаю, какова душа подлеца, но, пожалуй, представляю себе, какова душа порядочного человека — она ужасна».
*
Откройте ворота тюрем или докажите собственную непорочность.
*
Местр: «Горе поколениям, мечтающим о переломных эпохах». Словно тот китайский мудрец, который желал своим врагам пожить в «интересную эпоху».
*
Бодлер. Мир стал так непроходимо туп, что умный человек презирает его с неистовством страсти.
*
Унтерлинден[560]: «Всю жизнь я мечтал о монастырском покое». (И, разумеется, не смог бы выдержать его больше месяца.)
*
Европа лавочников — удручающая.
*
Ангажированность. Мои представления об искусстве возвышенны и страстны. Слишком возвышенны, чтобы я согласился подчинить его пустяку. Слишком страстны, чтобы я захотел лишить его даже пустяка.
*
Любовь была ему заказана. Он имел право только на ложь и адюльтер.
*
Клодель. Вульгарный ум.
*
Савойя. Сентябрь 50-го г.
Люди, подобные М., — вечные эмигранты, которые ищут родину и не могут найти ее нигде, кроме как в страдании.
*
Страдание и его лик, подчас такой подлый. Но нужно терпеть его и жить им — это расплата. Гибнуть в страдании за то, что посмел губить других.
*
Роман. «Он вспомнил, что однажды, во время одной из этих душераздирающих сцен, внушавших ему ужасные предчувствия, она сказала, что поклялась не принадлежать никому, кроме него, и что, даже если он ее бросит, ей никто не будет нужен. Ей казалось, что в эту минуту она дает ему наивысшее и неопровержимое доказательство своей любви, да так оно и было, но именно в эту минуту, которая, как она думала, навсегда связала его и слила с нею, ему, напротив, пришла в голову мысль, что он получил свободу и пора бежать — ведь можно не сомневаться, что она будет вечно верна ему и абсолютно бесплодна. Но в тот день — как и во все последующие — он остался».
*
Париж. Сентябрь 50-го г.
То, что я хочу сказать, гораздо важнее того, что я есть. Устраниться — и устранить.
*
Прогресс: решиться не рассказывать любимому существу о боли, которое оно нам причиняет.
*
Боязнь страдания.
*
Фолкнер. На вопрос, что он думает о молодых писателях, отвечает: «Они не создадут ничего значительного. Им нечего больше сказать. Чтобы писать, нужно проникнуться исконными великими истинами и посвятить свое творчество одной из них или всем им вместе. Те, кто не умеют говорить о гордости, чести, страдании, — посредственные писатели, и сочинения их умрут вместе с ними, если не раньше. Гёте и Шекспир выстояли, потому что верили в человеческое сердце. Бальзак и Флобер тоже. Они вечны».
— В чем причина охватившего литературу нигилизма?
— В страхе. В тот день, когда люди перестанут бояться, они снова начнут создавать шедевры, то есть произведения, которым суждена долгая жизнь.
*
Сорель: «Ученики вынуждают учителя отбросить сомнения и принять окончательные решения».
*
Без сомнения, всякая мораль нуждается в толике цинизма. Но где предел?
*
Паскаль: «Долгое время я жил, веря в существование справедливости, и не ошибался, ибо она существует постольку, поскольку Господу было угодно открыть нам ее. Но я ошибался, ибо полагал, что наша справедливость справедлива сама по себе, независимо от Господней воли, и что я смею познать ее и судить о ней».
*
Н. (эллины): «Отвага благородных племен, безумная, бессмысленная, стихийная отвага… их безразличие и презрение к телесной безопасности, к жизни и благополучию».
*
Роман. «Любовь либо крепнет, либо вырождается. Чем она несчастнее, тем сильнее она калечит. Если любовь лишена творческой силы, она навсегда отнимает у человека возможность творить по-настоящему. Она — тиран, причем тиран посредственный. Поэтому П. было тяжко сознавать, что он полюбил, не имея возможности целиком отдаться этой любви. Он безрассудно растрачивал время и душу и видел в этом некую справедливость, в конечном счете единственную, какую ему довелось встретить на этой земле. Но признать существование этой справедливости значило бы признать себя обязанным поднять свою любовь над уровнем посредственности, обязанным претерпевать самую страшную, но самую честную боль, ту, перед которой он всегда отступал с бьющимся сердцем, не помня себя от страха. Он не мог ни сделать больше, ни стать другим, и единственная любовь, которая могла бы все спасти, была любовь существа, которое приняло бы его таким, как он есть. Но любовь не может смириться с тем, что есть. Не для того раздается во всех уголках земли ее зов. Она отвергает доброту, сострадание, ум, все, что ведет к примирению. Она зовет к невозможному, к абсолютному, к небу в огне, к вечной весне, к жизни, превозмогающей смерть, и смерти, преображенной в вечную жизнь. Как можно было, полюбив, примириться с ним — в определенном смысле не более чем ничтожеством, причем сознающим свое ничтожество. Только он сам мог бы примириться с собой — примирившись с долгой, бесконечной и жестокой болью, настигающей человека, который потерял свою любовь и знает, что сам виноват в этом. Так мог он обрести свободу, правда, свободу страшную, истекающую кровью. Так, признав свое собственное ничтожество и ничтожество жизни любого человека, но одновременно ощутив в душе порыв к великому, который один только и мог его оправдать, мог он обрести и возможность творить свое существование.