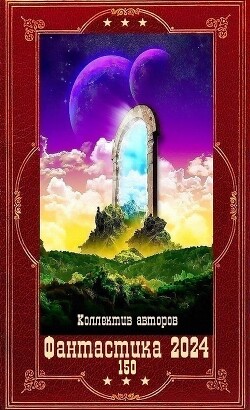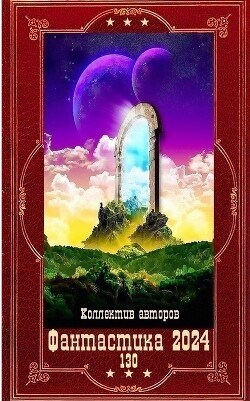Пол и секуляризм (СИ) - Скотт Джоан Уоллак
Протестантский секуляризм в Соединенных Штатах и Германии
В 1888 году Филипп Шафф, профессор истории церкви, так объяснял, что Американская конституция — это прежде всего христианский документ:
Первая поправка не могла зародиться ни в одной языческой или мусульманской стране, она предполагает христианскую цивилизацию и культуру… Одно только христианство научило людей уважать священную ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Божьему и искупленной Христом, и защищать ее права и привилегии, включая свободу вероисповедания, от вторжения мирской власти и абсолютизма государства [73].
Идея Шаффа не была исключением. Работы историков Джона Лардаса Модерна, Сюзан Джастер, Сета Моглена и Брайана Коннолли показывают, как глубоко дискурс секуляризма проник в мышление американских протестантов начиная с 1760‑х годов. «Американский Бог, — пишет Модерн, — не был просто теологическим продуктом, он также был политическим следствием секуляризма» [74]. (Здесь он перекликается с более ранними утверждениями Макса Вебера о том, что «Разделение „служебной сферы“ […] и „частной сферы“ проводится совершенно так же, как у политического (или любого другого) должностного лица» [75].) Хотя Джастер сосредоточивается на баптистах Новой Англии в период революции, Коннолли — на дискурсах об инцесте до Войны Севера и Юга, а Модерн — на самых разных группах (унитарианцы-либералы, евангелисты) в 1850‑е, все они утверждают, что, несмотря на риторику отделения церкви от государства и юридический факт отмены государственной религии, не существовало резкого разрыва между «религиозностью протестантизма и секулярностью демократического национального государства» [76]. На самом деле атмосфера секуляризма с его вниманием к политической и технической агентности людей, а также к способности человеческого разума раскрывать «недвижимые законы», могла работать, согласно Модерну, на то, чтобы различать «истинную религию» и ложную. Коннолли отмечает, что арена закона, библейского запрета инцеста, была постепенно вытеснена запретами, «фундированными в естественном праве». Судьи часто не видели противоречия в замене суверенной власти Бога естественным правом, постигаемым разумом, даже когда настаивали на христианских моральных принципах сексуального поведения и брака. Вот что пишет Коннолли: «Секулярное не столько заменило священное, сколько возникло рядом с ним» [77].
Важный момент моей аргументации состоит в том, что эти дискурсы секуляризации принесли с собой новое обострение внимания к половому различию, и, как подсказывает (процитированный выше) комментарий Филиппа Шаффа, это было различие, переплетающееся с расиализированным взглядом на религию. В изложении Джастер первым проявлением политики стала постановка вопроса о мужественности священников. Когда в ранние годы баптисты были в Новой Англии маргинализированной раскольнической сектой, пишет она, женщины принимали участие в управлении церковными делами и теологических спорах и, как правило, считались равными мужчинам. Однако во время политического кризиса, который привел к Революции,
женственная природа церкви стала поводом для беспокойства среди евангелических лидеров… политически активное и респектабельное в социальном отношении общество нуждалось в более мужественном образе, поэтому мы наблюдаем появление патриархального языка и структуры в баптистских церквях после 1780 года [78].
Как только баптисты Новой Англии решили, вполне в мейнстримном духе, примкнуть к патриотам, боровшимся против Британии, они переняли политический язык (автономии, независимости и мужественности), который станет наследием Революции. В процессе того, что Джастер называет «почти архетипичным воспроизводством описанного Вебером превращения маргинального религиозного общества с харизматическими истоками в рационалистический, бюрократический институт», управление делами церкви перешло от коллективного участия мужчин и женщин к «постоянным комитетам, состоящим исключительно из мужчин» [79]. Некогда вполне допустимое, вмешательство женщин в доктринальные дискуссии стало знаком их «распущенности», и суды над женщинами, обвиненными в такой распущенности, на рубеже столетий стали проходить чаще. Якобы природная склонность женщин к беспорядку делала их непригодными для управления церковью, даже если она гарантировала взгляд на мужчин как на рациональных лидеров. К 1810 году известное церковное издание могло с уверенностью утверждать, что баптистская церковь «считает само собой разумеющимся то, что обязанности и привилегии женщин в Евангельской церкви отличаются от обязанностей и привилегий мужчин» [80].
Политизация религиозных раскольников в революционную эпоху, — заключает Джастер, — происходила через фундаментальный пересмотр гендерных отношений в евангелическим сообществе. Политические способности евангелических священников, иначе говоря, не сформировались (не могли сформироваться) в полной мере до тех пор, пока они должным образом не дефеминизировали евангелическую политику и не истребовали себе более мужественную идентичность [81].
Что немаловажно, когда бинарная оппозиция мужское/женское начала структурировать мейнстримную политику и поддерживающую ее церковь, пророческие видения гендерного равенства стали исходить от религиозных сект, находившихся в статусе изгоев, и во главе которых часто стояли женщины — и это характерно не только для Америки, но и для Европы; такие фигуры, как Джоанна Сауткотт, мать Энн Ли и Джемайма Уилкинсон, были сторонницами гендерного равенства, отказавшимися подчиняться заповедям секуляризма [82].
Работа Моглена о моравских братьях в XVIII веке в Вифлееме (штат Пенсильвания) перекликается с выводами Джастер о баптистах. В начале столетия в этом харизматическом, маргинальном религиозном движении «женщины брали на себя невероятно большую часть руководства, и общественного, и духовного» [83]. В 1760 году, когда лидеры общины попытались учесть стороннюю критику и стать более приемлемыми для политической власти, был введен ряд новых практик:
Женщины были заново включены в структуру патриархальной семьи — и потеряли большинство форм власти, лидерства, материальной независимости… которыми они пользовались на протяжении двух десятков лет истории города [84].
Иными словами, для моравских братьев процесс секуляризации означал «радикальное уменьшение лидерства женщин и насаждение новых четких норм гендерной асимметрии и неравенства» [85].
Модерн пишет о 1850‑х как о времени, когда ликвидация официальной церкви ослабила церковные институты, сделав религию «отправлением личного права в частном порядке», а секуляризм — с его связью с «машинами механизированной циркуляции» — неотъемлемой частью религиозной веры (уже здесь мы видим исключение из линейного нарратива о современности, в котором секуляризм выступал заменой религии) [86]. Энн Дуглас отмечает возросшую конкуренцию между церквями, беспокойство о непостоянстве положения священников в новой рыночно ориентированной системе и подъем сентиментализма как симптом «феминизации американской культуры» в XIX веке. В ее изложении леди и священник образуют союз в борьбе против снижения публичного авторитета духовенства [87]. Модерн меньше внимания уделяет гендерным вопросам, но и он отмечает существование