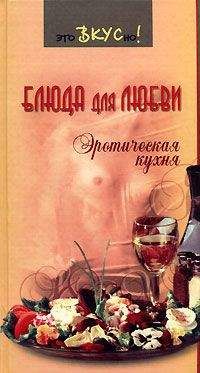Ольга Матич - Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России
Теологический подтекст и дидактический пафос сцены очевидны. Убитые животные символизируют Страсти Христовы. Мы должны осудить бойню, потому что убиение невинных животных ради пищи дурно; Толстой осуждает ее, потому что скотобойня является частью природного цикла, поставляющего человеку мясо, чтобы он мог осуществлять свою естественную функцию размножения в органической цепи. Толстой, к тому моменту выступавший против деторождения даже в законной семье, связывает поглощение мяса с плотскими страстями: одно ведет к другому.
Хотя при изложении своего морального тезиса он использует христианскую символику, его риторические стратегии и некоторые образы почерпнуты из репертуара натурализма: тульская бойня становится сценой, где мясники производят своего рода вивисекцию коров и овец, и Толстой наделяет эту процедуру нравственным содержанием. Но если обратиться к скрытому смыслу текста, мы обнаружим и вытесненный эротический подтекст описания бойни. Как мы увидим далее, Толстой находил в самом половом акте сходство с убийством, а этого нравственные люди должны избегать.
Но даже если оставить в покое безумную сексуальную мораль позднего Толстого, нельзя не задаться вопросом: как мог он не замечать языка насилия, «исходившего из уст» повествователя, и беспокоиться только о том, что «входит в уста»? Как мог он считать моральными свои риторические стратегии с их чудовищной жестокостью?
Из противоположной двери, той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидал, что один мясник занес кинжал над его шеей и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из‑под головы хлынула черно — красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил — жестяной таз. Всё время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминовый завод, другой — подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол всё так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке и там распяли ее, и там движений уже не было[27].
Хотя Толстой упоминает распятие и передает страдания животного, самое поразительное в этом тексте — риторическое удовольствие повествователя от описания того, как с живых животных сдирают шкуру, и от вивисекции, которой он сам их подвергает. Его захватывает кровавое, натуралистичное расчленение (в том числе и то, как оно воздействует на центральную нервную систему), которое, возможно, является подтекстом столь любимого им литературного приема повторения и навязчивой детали. Садистски отделяемые от целого части тела — бьющиеся ноги и голова быка — вызывают ужас и начинают жить жуткой собственной жизнью, как будто вот — вот станут воплощением синекдохи, риторически балансирующей на грани между натуралистическим описанием и декадентским фетишем. Струи крови при всем их натурализме могут рассматриваться и как прообраз декадентского тропа крови, например, в антисемитском описании кошерной бойни у Розанова.
Таким образом, мы можем с полным основанием утверждать, что толстовская повторяющаяся деталь становится патологической, а в некоторых случаях превращается в «тронутый заразой» фетиш. Что же тогда символизируют эти части тела? Если рассмотреть их в связи с владевшим писателем на рубеже веков карательным стремлением кастрировать мужчину, отрезанные члены замещают собой фаллос. Но можно ли утверждать, как это делает Нордау, что Толстого привлекала радикальная секта скопцов[28], проповедовавшая кастрацию как способ сексуального воздержания? Конечно же, нет, хотя аскетизм Толстого в девяностые годы почти буквально совпадал с евангельской проповедью Христа (Матфей, 5:30), по которой лучше потерять соблазняющую тебя часть тела, чем подвергнуться опасности заражения всего тела целиком: «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». Именно таков ответ отца Сергия в одноименном рассказе Толстого 1898 г. Его поведение служит иллюстрацией к этому стиху из Матфея. Однако мы знаем из рассказа, что кастрат не является идеалом Толстого. Таким образом, несмотря на возрастающие к концу века карательные устремления писателя, его отношение к практике скопчества сугубо негативное.
Что же касается тульской истории, мы можем заключить, что в ней расчленение тела изображается окончательным. В отличие от «Севастополя в декабре месяце», в «Первой ступени», где интерес писателя к расчленению достигает апогея, отсутствует гуманистический заряд. Безжалостно отрубленные части тела всего лишь удовлетворяют аппетит сексуально активных мужчин и женщин, чтобы они могли продолжать безнравственную погоню за восстановлением прокреативной силы природы. Именно это звено в цепи питания надеялся разорвать Толстой 1890–х гг.
Секс на анатомическом столе
Если в юношеских дневниках Толстого секс связан со срамными частями тела, то в «Севастополе в декабре месяце» и в «Войне и мире» сексуальные коннотации расчленения становятся частью темы войны. В отличие от «Анны Карениной», где война и ее последствия в виде потери членов присутствуют за пределами текста и уже в конце романа. Мы подозреваем, что на Балканах, куда в финале отправляется Вронский, он погибнет или, по крайней мере, потеряет одну из конечностей. Однако перед этим сам Вронский вторгается в дворянскую семью и нарушает ее цельность.
Полем битвы является тело Анны. Своеобразным прологом к ситуации становится ужасная сцена на станции, где знакомятся будущие любовники: поездом раздавило сторожа. В знаменитой сцене сразу после того, как Вронский и Анна удовлетворяют свою прелюбодейную страсть, тело Анны изображено расчлененным. Как и в дневниках, где описываются его собственные сексуальные похождения, Толстой не упоминает пережитое Анной и Вронским удовольствие. В сцене отражено только их патологическое чувство вины. Главными объектами изображения являются разбитое после соития тело Анны, лежащее у ног Вронского, и его патологическая реакция на секс, как на убийство: «Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. <…> Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи»[29].
Говоря словами Сергея Эйзенштейна, «вся сцена с великолепной жестокостью целиком разрешена из самых глубин авторского отношения к явлению, а не из чувств и эмоций ее участников (как, например, эту же тему в бесчисленных вариациях решает Золя на протяжении всей серии “Ругон — Маккаров”)»[30]. Внедряя в сознание Вронского аналогию между половым актом и убийством, Толстой передает ему дискурс карательного расчленения, сделав Вронского своим союзником в патологическом заговоре и продемонстрировав авторскую склонность к расчленению тела. Мне трудно представить себе, что Вронский, типичный представитель аристократического общества, который так долго ждал этого момента, сразу после коитуса почувствует себя маниакальным и параноидальным убийцей, расчленяющим желанное тело. Несмотря на свои слабости, Вронский — человек чести, который остается с Анной до самого конца. В финале, после самоубийства Анны, он отправляется искать увечья собственному телу. Однако аналогия с убийством делает совершенно очевидным необратимость разделения целого: с этого момента тело Анны — и ее семья — может только распадаться на части и уже никогда не станет единым целым.