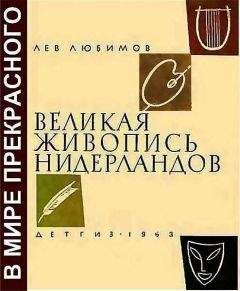Готхольд Лессинг - Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
Впрочем, между атрибутами, которыми художники пользуются для конкретизации отвлеченных идей, есть и такие, которые особенно пригодны для поэтического употребления и достойны его.
Я разумею атрибуты, не заключающие в себе собственно ничего аллегорического, на которые можно смотреть как на орудие, действительно употреблявшееся или пригодное к употреблению в том случае, если бы существа, которым они придаются, действовали как живые лица. Узда в руках Умеренности или колонна, к которой прислонено Постоянство, – аллегории, и, следовательно, поэту они не нужны. Весы в руках Правосудия уже менее аллегоричны, ибо правильное употребление весов есть действительно дело правосудия. Лира же или флейта в руках Музы, копье в руках Марса, молоток и клещи в руках Вулкана уже совсем не знаки: это просто инструменты, без которых эти существа не могли бы совершать приписываемых им действий. К этому роду принадлежат атрибуты, которые иногда вводятся в описания древними поэтами и которые, в отличие от аллегорических, я бы назвал поэтическими. Последние означают самую вещь, первые же – лишь нечто, похожее на нее78.
XI
Граф Кэйлюс принадлежит, по-видимому, к числу тех, кто требует, чтобы поэт наделял свои вымышленные существа украшающими аллегорическими атрибутами79. Такие требования показывают только то, что граф понимал больше в живописи, чем в поэзии. Но самое сочинение его, где выставлено это требование, вызвало у меня весьма важные соображения, наиболее существенные из которых я здесь и приведу.
Художник, по мнению графа, должен ближе ознакомиться с важнейшим поэтом-живописцем, с олицетворением самой природы – с Гомером. Он показывает, какой богатый, еще не затронутый материал представляет для художника изображенная великим греком история, и говорит, что художник добился бы тем большего, чем точнее придерживался бы он самых мельчайших подробностей, замеченных поэтом.
В этом совете смешано разграниченное нами выше двоякое значение подражания. Живописец, по мнению графа Кэйлюса, не только должен подражать тому же, чему подражал поэт, но и подражать теми же приемами: поэт должен быть для него не только рассказчиком, но именно поэтом. Однако, если этот второй вид подражания так унизителен для поэта, почему не быть ему таким же и для художника? Если бы до Гомера существовал такой ряд картин, какой называет Кэйлюс, и мы бы знали, что поэт только описал в своем произведении эти картины, то не уменьшилось ли бы значительно наше восхищение ими? Отчего же, с другой стороны, происходит так, что уважение наше к художнику нисколько не уменьшается, хотя бы он не сделал ничего больше, как перевоплотил слова поэта в краски и фигуры?
Причина эта, кажется, такова. У художника исполнение представляется нам делом более трудным, чем замысел; у поэта же, наоборот, замысел кажется нам более трудным, чем исполнение. Если бы Вергилий заимствовал уже из готовой группы мысль представить Лаокоона, обвитого змеем вместе с детьми, он лишился бы в наших глазах своей важнейшей и труднейшей заслуги, и за ним осталась бы лишь меньшая. Ибо гораздо важнее представить себе сначала эту картину в воображении, нежели выразить ее потом в словах. Наоборот, если художник взял это расположение фигур у поэта, за ним бы оставалась еще значительная заслуга, хотя бы замысел и не принадлежал ему. Ибо выразить что-либо в мраморе бесконечно труднее, нежели выразить в слове, и потому мы всегда готовы простить художнику некоторые недостатки в замысле, поскольку находим у него достоинства в исполнении.
Есть даже случаи, когда большей заслугой художника является подражание природе на основе созданий поэтов, нежели самостоятельное подражание ей. Живописец, изображающий прекрасный ландшафт по описанию Томсона, делает больше того, кто списывает его прямо с природы. Последний имеет оригинал перед глазами. Первый должен сначала так напрячь воображение, чтобы этот оригинал показался ему живым. Один создает нечто прекрасное по живым, чувственным представлениям, другой – по слабым и зыбким представлениям, возбуждаемым произвольными знаками.
Однако как ни естественна наша готовность простить художнику несамостоятельность замысла, столь же естественно такое снисхождение должно было развить в нем и равнодушие к этой стороне дела. Ибо, видя, что замысел никогда не может быть сильной его стороной и что наибольшей похвалы добивается он выполнением, он сделался, наконец, совершенно равнодушным к тому, стар или нов его замысел, был ли он использован один или много раз, принадлежит ли он ему или кому-нибудь другому. Он замкнулся в тесном кругу немногих, уже привычных ему и публике тем и направил всю свою изобретательность только на изменения уже известного, на создание новых сочетаний из старого. Таково именно то представление, которое учебники живописи связывают со словом «замысел». Ибо хотя они разделяют замыслы на живописные и поэтические, но даже и поэтические замыслы не ставят себе у них задачей нахождение самой темы, а имеют в виду расположение или выразительность80. Поэтический замысел касается у них не целого, а лишь отдельных частей и их положения; он представляет замысел того низшего типа, какой рекомендовал Гораций трагическому поэту: «Лучше ты илионскую песнь перекладывай в действо, чем первым то на подмостки вводить, что совсем неизвестно и ново»81, – рекомендовал, но не предписывал; рекомендовал как более легкое и удобное для него, но не предписывал как лучшее и благороднейшее само по себе.
Действительно, поэт, обрабатывающий всем известную историю и всем известный характер, обладает большими преимуществами. Он может опустить сотни холодных мелочей, которые в другом случае были бы необходимы для понимания целого; а чем скорее поймут его слушатели, тем скорее возбудит он их интерес. Таким же преимуществом обладает живописец, когда его замысел не совсем нам чужд, когда мы с первого взгляда понимаем план или идею всего произведения, когда мы не только видим, как говорят его герои, но и слышим, что они говорят. Вся сила впечатления зависит от первого взгляда, и если при этом первом взгляде от нас требуются утомительные соображения и догадки, то наша заинтересованность ослабляется. Чтобы выместить нашу неудовлетворенность непонятным для нас художником, мы восстаем против его средств выразительности, и горе ему, если он пожертвовал для них красотой! Мы не находим тогда ничего, что бы нас привлекало в картине и заставляло останавливаться перед ней; то, что мы видим, нам не нравится, а того, что мы должны бы думать, глядя на нее, мы не знаем.
Итак, мы видели, что, во-первых, оригинальность и новизна сюжета не только не составляют главной задачи художника и что, во-вторых, известный уже сюжет усиливает впечатление от его произведения. Если же это справедливо, то, по моему мнению, причину, почему живописец так редко берется за новые сюжеты, нечего искать, как это делает граф Кэйлюс, в невежестве художника и в трудностях техники изобразительных искусств, требующей для овладения ею много времени и внимания. Напротив, мы найдем для этого более глубокое обоснование, и, может быть, то, что нам казалось прежде несправедливым ограничением для искусства и помехой нашему наслаждению, в художнике придется похвалить как мудрую и нам самим необходимую сдержанность. Я не опасаюсь, что в этом случае меня опровергнет опыт. Живописцы будут, конечно, благодарны графу за его доброе пожелание, но едва ли воспользуются им в той мере, как он этого ожидает. Но если бы даже это и произошло, через сто лет понадобился бы новый Кэйлюс, который бы опять восстановил в памяти художников старые сюжеты и вернул их на то поле, где другие до них пожинали такие лавры. Или, может быть, хотят, чтобы широкая публика была так же учена, как и какой-нибудь книгочей? Чтобы все исторические и легендарные события, которые могут вызвать прекрасную картину, были ей знакомы и близки?
Я согласен, что художники сделали бы лучше, если бы со времен Рафаэля выбрали себе настольной книгой Гомера вместо Овидия.
Но так как этого не произошло, то позвольте уж публике идти своим путем и не портите ей удовольствия, заставляя ее платить за него слишком дорогой ценой.
Протоген написал мать Аристотеля. Не знаю, сколько заплатил ему за это философ. Но то ли вместо платы, то ли вдобавок к ней он дал ему один совет, который был, конечно, лучше всякой платы, ибо я не могу себе представить, чтобы этот совет был простой лестью. Сознавая необходимость для искусства быть понятным для всех, Аристотель посоветовал Протогену изобразить подвиги Александра, подвиги, о которых тогда говорил целый свет и относительно которых он мог предполагать, что они останутся памятными и для потомства. Протоген, однако, не был достаточно благоразумен, чтобы последовать этому совету: некоторая кичливость и стремление к странному и неизвестному, говорит Плиний, влекли его к сюжетам совсем иного рода82. Он охотнее рисовал историю какого-нибудь Иалиса83 или какой-нибудь Кидиппы и т. п., картины, о которых теперь даже нельзя и догадаться, что они изображали.