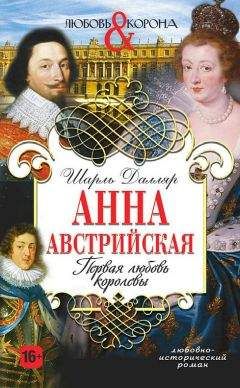Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Во многом гёльдерлиновский Эмпедокл близок гётевскому Фаусту – прежде всего неутомимостью поисков истины, стремлением преобразовать жизнь, создать «народ свободный на земле свободной». Как и Фауст, одержимый изначально желанием постичь «вселенной внутреннюю связь», открыть единый закон, движущий бытием, Эмпедокл ищет единое начало, созидающее все сущее, но не находит его. Мир в его представлении предельно противоречив, ибо движется Любовью и Ненавистью. Отсюда проистекают все страдания людей, и эти же страдания, эту расколотость герой ощущает в собственной душе. С одной стороны, он задуман как воплощение гармонии, предельной близости богам, предельного слияния с природой, с другой – эта гармония оказывается чрезвычайно хрупкой, легко подверженной деформации, и не только из-за непонимания толпы, но и из-за внутренних сомнений, колебаний самого героя, а также из-за его гордыни.
Эмпедокл у Гёльдерлина выступает как великий духовный наставник народа и провозвестник подлинно свободного человеческого бытия, «прекрасного мира». В его уста поэт вкладывает не только великую мечту века Просвещения о «Царстве Разума», созданном на основе общественного договора, но и собственную величественную версию этой утопии – представление об абсолютной свободе человеческого духа, об обществе подлинной духовности и красоты, не нуждающемся в тирании никакого государства, пусть даже самого лучшего, о союзе сограждан-братьев, скрепленном нравственным законом, о людях, живущих в подлинном союзе с Природой, насквозь пронизанной движением Единого Духа (те же мысли мы обнаруживаем в романе Гёльдерлина «Гиперион» и его поэме «Архипелаг»):
Дерзните! Все, чем овладели сами,
Все, что внушили вам отцы и деды, —
Обряды древние, богов старинных, —
Забудьте и к божественной природе
Свой удивленный поднимите взор,
Как смотрит новорожденный младенец!
И вот, когда, узрев небесный свет,
Ваш дух воспламенится, и впервые
Дыханье жизни напоит вам грудь,
И мир охватит вас, душе внушая
Святым напевом благостный покой,
Когда земля восторженному взору
По-новому зеленой засверкает,
И горы, море, облака, созвездья,
Благие силы, как родные братья,
Предстанут взгляду, зажигая сердце
Порывом к героическим деяньям —
Воздвигнуть собственный прекрасный мир, —
Тогда подайте вновь друг другу руки
И поделите меж собой добро
По справедливости, и труд, и славу,
Как Диоскуры верные; и каждый
Пусть равен всем, и колоннадой стройной
Пусть подпирает кровлю новой жизни
Незыблемый порядок, и пускай
Союз ваш будет укреплен законом.
Тогда, о Гении природы, вас
Народ свободный позовет, ликуя,
На празднества свои, – ведь смертный может
Души своей богатство расточать
С любовью щедрой, если дух его
Не стиснут гнетом рабства.
Однако произносит эти слова человек, твердо решивший покинуть навсегда людей, которые так нуждаются в нем, которые все еще так несовершенны, так далеки от «прекрасного мира», чьи контуры обрисованы в речах их учителя. Почему же уходит Эмпедокл, и не только из Агригента – из жизни? Это самый трудный вопрос. Кажется, Гёльдерлин сознательно так выстраивает свою трагедию и так пишет ее, что в отдельности понятна каждая сцена, отчетлив и прозрачен каждый образ, внятно каждое слово, но в целом – все неисповедимо, зыблется, мерцает, двоятся и троятся смыслы, ускользают из-под власти обычной логики.
В начале трагедии мы видим главного героя глазами двух чистых прекрасных девушек – Пантеи, дочери Крития, архонта Агригента, и Делии. Точнее, об Эмпедокле восторженно и вдохновенно говорит Пантея, спасенная от таинственной тяжкой болезни его врачевательским искусством и полюбившая его самозабвенной любовью. Для нее Эмпедокл – высшее, идеальное существо, почти небожитель или даже нечто большее – великий дух, проникший во все тайны мироздания; он внушает трепет, смешанный с ужасом, и невероятную любовь: «Говорят, там, где он проходит, к нему тянутся травы и цветы, там, где посох его касается земли, воды из глубоких недр устремляются на поверхность! Все это, наверное, правда! Еще говорят: когда он в грозу поднимает очи к небосводу, тучи расступаются, открывая лучезарную синеву. Только что тебе все это может дать? Ты должна увидеть его сама, увидеть лишь на миг, – и тотчас прочь! О, я ведь тоже его стараюсь избегать, в нем живет грозный, всепреображающий дух. <…> Величественно прекрасный, он и сейчас стоит у меня перед глазами! Под улыбкой его очей жизнь моя снова расцвела, мое сердце, подобно утреннему облаку, плыло навстречу божественно сладостному свету, и я была слабым отблеском его!…Звуки, льющиеся из его груди… В каждом слоге – вся музыка мира… Дух, трепещущий в слове его!.. Я хотела бы сидеть у его ног, сидеть часами, как его ученица, его дитя, и, устремив взоры в родной ему эфир, подниматься, ликуя, к нему, чтобы в его небесных высях мой дух потерялся, как жаворонок утопает в синеве».
Пантея не случайно подчеркивает особую силу слова Эмпедокла: в сущности, он великий поэт, и устами своей героини Гёльдерлин погружает нас в глубины творческого духа, выражает собственное представление о великой тайне творчества. Поэт творит из самого себя, порождая в себе вдохновение; открывая в себе божественную гармонию, он несет ее людям, и эта гармония способна победить хаос:
…Чужд земному,
Живет он в мире собственном, дыша
Божественным покоем, посреди
Своих цветов и ветер дуновеньем
Счастливца не решается тревожить.
Немотствует природа, вдохновенье
Родится в нем из самого себя,
Даря ему растущее блаженство,
Покуда темный творческий восторг
Не озарится яркой вспышкой мысли
И сонмы духов, будущих деяний
Не вторгнутся в него, – а с ними мир,
Кипящий мир людей и мир природы
Безмолвной, – и тогда, как божество
В клокочущих вокруг него стихиях,
Гармонией небесной упиваясь,
Выходит он к народу…
Процесс творчества, описанный Гёльдерлином, весьма показателен для его понимания поэта как посредника между двумя мирами – небесным и земным, а также почти иллюстрирует идею Ф. Ницше о рождении великого искусства как синтеза дионисийского («темный творческий восторг») и аполлоновского («яркая вспышка мысли») начал. Но если у Ницше, любимым поэтом которого был Гёльдерлин, художник и искусство – не от мира сего и никак с ним не связаны, то у Гёльдерлина поэт и мыслитель (а поэзия и философия понимаются им как нерасторжимое единство) низводит небесную гаромнию в земное бытие, открывает ее людям. Согласно одному из поздних гимнов Гёльдерлина – «Как в праздник…», названном М. Хайдеггером самым совершенным воплощением сущности поэзии, поэт, стоящий «под Божьей грозою» с головой непокрытой, «ловит луч Отца, Его свет» и, «одев его в песню», «народу приносит небесный дар». Так и Эмпедокл выходит к народу, неся ему небесную гармонию, высшее знание. Он обладает такой силой слова, такой харизмой, что заставляет замирать толпу, подчиняет ее своей мысли. Но подлинный мыслитель и поэт, утверждает Гёльдерлин, никогда не может быть до конца понят и принят этим миром:
…Выходит он к народу – в грозный час,
Когда толпа сама себя не слышит
И с хаосом способен совладать
Лишь он, могучий. И, как мудрый кормчий,
Выводит судно в море он, – но только
Они его, чужого, начинают
И понимать, и чтить, как сразу мир немой
Природы вновь от них его уводит
Под сень дерев, таинственная жизнь
Которых для него открыта настежь,
Даря ему блаженство и покой.
Так уже изначально задается трагическая дихотомия бытия Эмпедокла: с одной стороны, он пребывает в полной гармонии с природой, с другой – обостренно ощущает дисгармонию социального бытия; с одной стороны, он стремится жить во имя людей, с другой – ощущает их неготовность к новой жизни, их чуждость себе.
Пантея предвидит трагические события, вспоминая, каким она в последний раз видела Эмпедокла – подавленным и скорбным:
Когда в последний раз он там стоял,
В тени своих дерев, он показался
Мне в тяжком горе, – боговдохновенный,
Он взор свой, полный небывалой боли,
То долу опускал, то устремлял
Сквозь мглу дубравы, в синий свод небес,
Как будто жизнь, уже покинув землю,
Летит к иным пределам, – скорбь лежала
На царственных его чертах, и я
Вдруг поняла: увы, и ты погаснешь,
Прекрасная звезда! Твой свет умрет,
И этот день уж недалек.
Пантея еще не знает и не понимает, как не понимает никто, что скорбь Эмпедокла продиктована ощущением собственной вины, тем, что он посмел уравнять себя с богами. Во второй сцене первого действия жрец Гермократ на свой лад объясняет архонту Критию происходящее с Эмпедоклом: «Сидит, опустошенный, в темноте. // Бессмертные его лишили силы // В тот самый день, когда пред всем народом, // Безумец, богом он назвал себя». Критий убежден, что Эмпедокл «заразил народ своим безумьем», что люди «ждут лишь от него благодеяний. // Он должен стать их богом, их царем». Гермократ прямо клевещет на Эмпедокла, обвиняя его в непомерной гордыне, в желании мстить и присвоить себе весь мир: