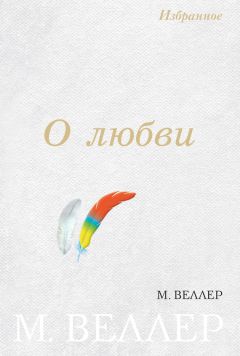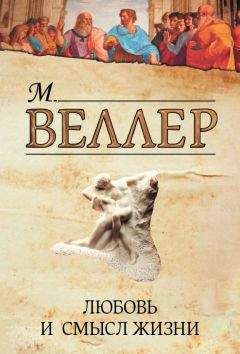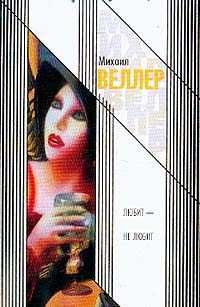Александр Михайлов - Избранное. Завершение риторической эпохи
В одной из ранних своих заметок (впервые опубликованной В.Дильтеем в 1891 году) Гёте излагает естественные возражения против такой картины самоограничения: человеку «приходится постоянно слышать, что душа должна становиться все проще и проще (einfältiger und einfältiger), направляться в одну-единственную точку, отделываться от любого многообразия отношений, и только тогда можно найти более надежное счастье в таком состоянии, которое есть дар, особое даяние Бога. Правда, мы, в согласии со своей манерой думать, не назвали бы такое ограничение даром, потому что недостаток чего-либо нельзя рассматривать как дар, но мы хотели бы смотреть на него как на благодать Природы, — коль скоро уж человек в состоянии достигать лишь весьма неполных и несовершенных понятий, так она и снабдила его такой удовлетворенностью узости»[10].
Не только гимн Природе из романа «Дафнис», но и все творчество Геснера пропитано этой «удовлетворенностью узости», или «довольством своей узостью». Однако было бы до крайности близоруко обращать это в упрек поэту, поскольку в его текстах и запечатлелось определенное самоистолковывание человека, человеческой личности, каким оно было еще возможно в 1760—1770-е годы, — такое самоистолковывание, что сейчас необходимо всячески подчеркивать, построено исключительно на рефлексии, составляющей самую суть и плоть всей культуры сентиментализма: хотя рефлекти-руется не что иное, как «чувство», то есть определенным образом понимаемое, истолковываемое «чувствование»/«сантиман» = «санти-мент», и это «чувство» очень хотело бы свестись к чему-то «простому» и застрять в такой простоте, но простота-то достигается способом сложным, через непрестанное и бесконечное вращение в нерасторжимом кругу саморефлектирования, — собственно, не достигается, а лишь усматривается как цель. Сочинения Геснера, как это ни покажется кому-то странным, — это не плод «простой» самоуспокоенности, именно потому и удовлетворяющийся перетасовкой одних и тех же недалеких сюжетных мотивов, так и даже попросту ключевых, все повторяющихся слов (пока сами такие слова производят на сознание, какое узнает себя в них, завораживающее впечатление, их можно рассматривать как микротексты культуры), а это схваченный итог все продолжающейся рефлексии, размышлений самой эпохи над самой собою, причем эпоха обнаруживает, что еще может художественно-мыслительно самоограничиться и разуметь себя в терминах самоуспокоенности. Все и всякие холмы, луга, деревья, ручьи Геснера, его «покой» и «кротость», и «светлая радость» — все это на самом деле термины такого самоистолкования; они несут на себе поэтическую нагрузку, они даже сами по себе, по отдельности, «звучат» на тогдашний слух «поэтично», а вместе с тем они служат и устоями рефлективного самоистолкования, причем и первое, и второе — во взаимообусловленности: такие слова-термины потому-то и поэтичны, что в них запечатлены акты самоузнава-ния (мыслью культуры — самой себя), и они интеллектуально-значимы вследствие того же самого «тотального» — душевно-чувствен-но-духовного самоузнавания-самоотождествления со своим миром, с его пределами-краями, в какие упирается мысль и взор — в эти холмы, деревья, берега ручейков и т. д. и т. п.
Итак, сочинения Геснера — это поэтически-интеллектуальный продукт, возможность которого дана языком эпохи; душевное, всякое «чувствование» и рефлективно-интеллектуальное на этом языке максимально сближены и, если можно так сказать, они вращаются друг в друге. Причем тут, в этом мире, возникает даже возможность и всякое «роскошествование» брать с положительной стороны, — как и любое «наслаждение», оно есть все равно что преизбыток простоты, вечно рефлектирующей себя и вечно любующейся собою, и не более того; можно даже и всякую похотливость перетолковывать как невинность, — и это как стилизаторство, так и сама «правда».
В романе «Дафнис», этом ослабленном отголоске античного «романа» Лонга, из которого только окончательно вынут всякий хребет, так что все тут почти до предела изнежено и смягчено, — в этом романе еще оставила первые свои следы реальность «городской» цивилизации, противоположной первозданной простоте сельской жизни, «довольной, ибо не ведающей себя», — она еще оставила тут некоторые следы, каких почти уже не встретишь в позднейших идиллиях Геснера. Прежде всего оказывается, что человеческие обман и коварство все-таки могут гнездиться и в таком пасторальном мире, — есть тут для них местечко, и даже сам добродетельный Дафнис не настолько простодушен, чтобы не предполагать подобные качества в людях. Вообще говоря, — тут поэтическая условность совмещается с некоторыми требованиями здравомыслия, — все населяющие эту действительность люди хорошо ведают себя, чтобы, например, сознательно предпочитать бедность богатству. В книгу вторую вошел рассказ о пастухе Палемоне и виноградаре Тимете, которые, найдя клад, решают вновь зарыть его в землю, — «[…] я не рад найденным сокровищам, — сказал Пале-мон, — найди его я один, я еще глубже зарыл бы его в землю. Ведь что я нашел? Разве я стал бы потом валяться на лугу без дела, в прохладной тени, и зевая смотрел бы, как пашет свое поле сосед, или же в поте лица возделывает виноградник, или бдит над стадом своим, или же бы я стал больше есть или же с большим желанием?»; «Мне работа сдабривает простую пищу и сохраняет меня во здравии». Между тем среди пастухов, с такой философической невозмутимостью отвергающих всякий шанс разбогатеть, каким-то чудом поселилось имущественное неравенство — к Филлиде, возлюбленной Дафниса, сватается богатый пастух Ламон, и это вносит в жизнь зёрна совершенно обыкновенного, далеко не пасторального конфликта: мать Филлиды спешит дать слово пастуху, думая устроить счастье дочери, — ведь «его стада покрывают все пастбище […] от прибрежного тростника до подножья горы, синеющей вдалеке на горизонте». Да и в конце концов счастье Дафниса и Филлиды обретено исключительно благодаря случившемуся тут благородному богачу Аристу, изгнанному из города Кротона (но — без конфискации имущества), — он-то и купил им землю и новую хижину, между тем как старая, ветхая досталась семейству, только что потерявшему кров над головой и не знающему, куда приклонить голову. Предустановленная гармония творит тут свои добровольные чудеса, и выходит даже, что й «городское» богатство есть к чему применить в пасторальном мире. В то время как этот последний широко раскинулся вширь, мир города в этой идиллической действительности призрачно существует на самых дальних оконечностях природного мира пастухов и совершенно замкнут в себе. Старик Арист до своего изгнания из Кротона, словно швейцарец XVIII века (как тот же Геснер или Галлер), «заседал в совете родного города», города, «правители которого, хотя им следовало бы любить богов, и добродетель, и справедливость, купаются в роскоши (Wollust — теперь негативное осмысление получает то самое, что в гимне Природе осмыслялось позитивно), губят народные нравы, а справедливость и добродетель приносят в жертву своекорыстию и порокам»[11]. Когда же Арист оказывается за стенами города, то, получается, он впервые в жизни видит и природу, и добродетель, вдруг, внезапно открывая их для самого себя: «Ах! какое же блаженство […] жить среди добродетельных! […] среди вас нахожу любезную добродетель, какой тщетно искал в родном городе».
Но таким же отблеском горькой правды, что и рассказ старика, выглядит восклицание виноградаря, — он-то из пасторального мира: «Сколько же горя выпало на нашу долю, на долю бедняков! Мы работаем от утреннего солнца до солнца вечернего, и что же выигрываем от того? Простую пищу, усталые члены тела».
Однако именно это появление явно неидиллического, «измученного» тона в пасторали, видимо, было необходимо — по той причине, что поэту следовало как-либо разрешить реальное противоречие между трудом как проклятием (Быт 3: 17–19) и трудом как благословением и спасением. А именно, только труд, причем поглощающий всего человека, все его время, ставит человеческое существование в разумные и здоровые рамки; только он создает условия для умеренности и довольства, а тем самым и для светлой радости жизневосприятия, и для «добродетели», и, наконец, даже и для «пышного роскошествования», то есть для такого удовольствия, которое повернуто тут своей невинной стороной. Переделать (умственно!) тяжкий труд в труд спасительный и «довольный самим собою» — это внутренняя задача всего творчества Геснера; переделать означает здесь переосмыслить, а переосмыслить значит одновременно и завоевать свой поэтический мир, обосновав его право на существование.