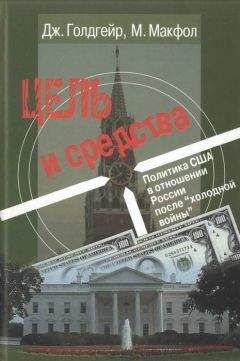Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
Пушкин был не слишком склонен к полемике; интересы его были переменчивы, острые мысли порой отрывочны, мнения обтекаемы. Однако же постепенно у него установилось мировоззрение, которое может считаться консервативным в социальных и политических вопросах и либеральным в духовной и творческой сфере. После любвеобильной молодости и близких отношений с декабристами и другими романтическими реформаторами он сделался сторонником самодержавия в 1820-х гг. и полуодомашненным отцом семейства — в 1830-х. К вульгарной и своенравной черни он всегда относился по-аристократически брезгливо. Перспективы американской демократии были ему сомнительны, и он старался воздавать должное выдающимся личностям — Петру Великому, Ломоносову, временами даже Наполеону — тем, кто пренебрегал мнением большинства во имя иных, более высоких жизненных целей и так или иначе обогащал культуру. Он всегда был монархистом, но о Николае I писал с большей симпатией, чем об Александре I; он прославлял Петра и осмеивал его украинского недруга гетмана Мазепу в своей поэме «Полтава» (1829); и одобрил подавление польского восстания 1830 г. Неуклонно возрастало его уважение к постоянству и традиции. Он пришел к выводу, что за любыми насильственными переменами неизбежно следует роковая расплата — подобно тому, как избыток поэтичности вызывает дисгармонию и нарушение подлинности искусства. Пушкина ужасал террор Французской революции; он осуждал неистовство простонародья в своём большом историческом сочинении начала 1830-х гг. «Истории Пугачевского бунта».
Но в той степени, в какой вершители революций являются неповторимыми личностями, а не простыми орудиями безличной борьбы с традицией, Пушкин вырисовывает их с такой же беспристрастной тщательностью, которой в его творчестве удостаиваются князья, цыгане и вообще все представители рода человеческого. Пугачев как личность симпатичен и понятен даже в вышеупомянутой «Истории», а в повести «Капитанская дочка» представлен его идеализированный образ. Объективно изображаются поляки в «Борисе Годунове» и крымские татары в «Бахчисарайском фонтане». Подавление декабризма угнетало его не потому, что он сочувствовал замыслам декабристов, а ввиду того ущерба для художественного творчества, который понесла Россия с утратой столь одаренных поэтов, как Рылеев и Кюхельбекер. В тот самый год, когда произошло восстание декабристов, Пушкин сделал своим лирическим героем неоклассицистского французского поэта Андре Шенье, гильотинированного во времена революционного террора. Лира пушкинского Шенье «поет… свободу: не изменилась до конца», несмотря на то что поэт осужден и «заутра казнь, привычный пир народу»; перед самой смертью он восклицает:
…ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты [1036].
Единственным надежным залогом достоинства человеческой жизни является сохранение индивидуальной творческой свободы. «Пушкин защищает точку зрения истинного консерватизма, основанного на примате культуры и духовной независимости отдельной личности и общества»[1037]. Относительно защищенный покровительством Николая I от посягательств черни и требований рынка, Пушкин все же чувствовал, что «примату культуры» угрожают тупые чиновники и бдительная цензура. Наводнение и безумие, губящие мелкого чиновника в «Медном всаднике», это роковая расплата за стремительные реформы Петра, так же, как несчастья и смерть Бориса Годунова — последствия преступления, по-видимому проложившего путь к престолу достойному его Борису. Оптимизм ранней лирики Пушкина в позднейших его произведениях омрачается все более глубоким ощущением одиночества человека перед лицом равнодушной природы и растущим сознанием непостижных уму бездн хаоса в самом человеке. В последние годы жизни он пытался углубить свое дотоле поверхностное понимание христианства, печалился об ушедшей молодости и в целом уделял больше внимания прозе, чем поэзии. «Я, — говорил он, — атеист в отношении счастья. Я в него не верю»[1038].
Он скончался н январе 1837 г. от раны, полученной на бессмысленной дуэли.
Посмертное обожание Пушкина было и остается безграничным. Его архив немедля поступил в государственную собственность; и Лермонтов написал на его смерть стихотворение, где яростно обличал его клеветников и гонителей; таким образом, выявился новый верховный поэт России, которому тоже суждена была безвременная и бессмысленная кончина четырьмя годами по же. Лермонтов — поэт куда более угрюмый и самоуглубленный, нежели Пушкин. Он словно бы открыл эмоциональные шлюзы, и герои европейского романтизма — Байрон, Шатобриан и Гёте — стали главенствовать в поэтической культуре, на которую ранее лишь влияли. Особое место занимал «Фауст» Гёте. Его перевел сперва Веневитинов, поэтический вундеркинд-оригинал двадцатых годов, затем — уже в тридцатых — Евгений Губер, саратовский пиетист, который был другом не только Пушкина, но и Феслера, главного оккультиста александровской эпохи[1039]. Одоевский назвал героя своих чрезвычайно романтических и очень читавшихся «Русских ночей» «российским Фаустом». Романтические устремления и метафизические запросы, свойственные уже Лермонтову, в полную силу сказались в творчестве Федора Тютчева, который пережил Лермонтова на несколько десятилетий и был последним живым напоминанием о великолепии золотого века русской поэзии. Начав с переводов из гётевского «Фауста» в нарочито архаическом стиле, Тютчев обратился затем к изображению мира индивидуальных фантазий и к «ночной» тематике, напоминавшей ранних, отрешенных от мира романтиков вроде Новалиса и Тика[1040].
Этот сдвиг к эмоциональности, метафизике и затемнению смысла знаменовал угасание пушкинской традиции и общий упадок интереса к поэзии. Однако возраставшая неприязнь к более строгим, классицистским формам поэзии и архитектуры не умаляла восторженного отношения к искусству как таковому, которое по-прежнему считалось хранилищем ответов на великие жизненные вопросы. Идея о пророческом назначении искусства восходит опять-таки к Пушкину, который в изумительном стихотворении 1826 г. «Пророк» повествует о том, как изнемогавшему от «духовной жажды» и заблудившемуся в пустыне поэту является Господень посланец, «шестикрылый серафим», и под его перстами «отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Серафим преобразил празднословного грешника, вложив ему в грудь на место «трепетного сердца» «угль, пылающий огнем», и призвал его восстать и «глаголом» Господним «жечь сердца людей»[1041].
Поколение художников, пришедшее на смену Пушкину, именно это и пыталось делать. Каким образом философская озабоченность способствовала созданию нового «пророческого» искусства, видно на примере взаимозависимой жизнедеятельности двух выдающихся представителей этого «дивного десятилетия»: писателя Николая Гоголя и живописца Александра Иванова. Хотя они трудились в разных областях искусства и Гоголь добился куда больших успехов, глубинные их устремления совпадали, и отношения их являли собой образец — первый из многих — духовной близости прозаиков и живописцев: Толстой и Ге, Гаршин и Верещагин, Чехов и Левитан[1042].
Творческая активность Гоголя и Иванова почти полностью совпадает по времени — та и другая приходится приблизительно на царствование Николая I — и во многих отношениях показательна, отображая внутренний разлад, характерный для этого времени. Оба они, недовольные собой, покинули Санкт-Петербург в 1830-х гг. в поисках новых источников вдохновения и провели за границей большую часть оставшейся жизни.
Паломничества к заграничным святыням были весьма типичны для николаевской эпохи. Не иссякал поток россиян-посетителей обиталищ Шиллера и Гёте. Отец русской романтической поэзии Жуковский прожил в Германии почти все свои последние годы; шеллинговский Мюнхен привлекал Киреевского, Шевырева и Тютчева, а гегелевский Берлин — Бакунина и Станкевича. Глинка и Боткин паломничали в Испанию, Хомяков — в Оксфорд, Герцен — в Париж. В экзотические кавказские края русских манили поэтические создания все того же Пушкина и в особенности Лермонтова. Романтическое Auswanderung (скитальчество) было столь привычно, что Станкевич однажды предположил — с комическим намеком на «Кавказского пленника» Пушкина, — что каждый российский умник втайне желает стать «калмыцким пленником»[1043].
Порой движущим мотивом таких странствий была ностальгия романтического воображения по утраченной красоте классической древности: «сиянью Греции святой и славе, чье имя — Рим». Поиски связей с античным миром особенно страстно велись в России, не укорененной в классической традиции и лишь отдаленно знакомой с формами искусства и быта, производными от этой традиции в странах Средиземноморья. Россиянам оставалось разве что «открытие» Крыма, исполненного экзотического очарования и колонизованного греками еще в античные времена полуострова в Черном море, где нашла пристанище Ифигения и покончил с собой изгнанник Митридат.