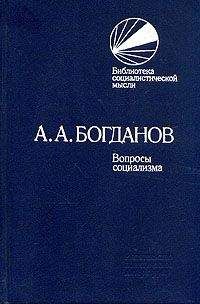Сергей Аверинцев - Статьи не вошедщие в собрание сочинений вып 2 (О-Я)
Во-первых, ни у кого из прежних мыслителей философское описание сущего не имело такой жесткой, непроницаемой замкнутости, такой претензии на тотальность. Между понятиями и тезисами оставался какой-то зазор и просвет, оставался воздух: было место для игры нереализованных мыслительных возможностей. Поэтому, если приходится констатировать, что в мысли Платона или даже Плотина определенного содержания – например историзма – нет, это отрицание "нет" не так абсолютно, как в том случае, если речь идет о мысли Прокла. Выше говорилось о том, как Плотин выстроил из фрагментарных обмолвок Платона систему, но только Прокл довел систематичность до предела: он словно бы взялся сказать все и обо всем. Шла какая-то неслыханная инвентаризация понятийного богатства философской традиции: все нюансы, аспекты и подвиды абстрактнейших категорий нужно было обособить, пересчитать, как сокровища Скупого рыцаря, и привести в порядок, как коллекцию. Прокл берется назвать шесть подвидов понятия "мышление" (??????)75, сорок восемь подвидов основной причины (?????) и столько же подвидов дополнительной причины (????????)76; восемь подвидов платоновской Идеи, подлежащих, впрочем, дальнейшему дроблению77, десять подвидов категории предела (?????)78. Взяв четыре вида причинности по Аристотелевой схеме, он вычленяет в каждом из них по четыре аспекта, а каждый из этих аспектов дробит еще на четыре, так что в итоге четверка Аристотеля возводится в куб79.
Этому уклону мысли Прокла соответствует его философский язык, умный и по-своему красивый, сочетающий поразительную разработанность терминологии с гиератической, жреческой торжественностью тона, но какой-то неживой. Язык этот все берется назвать, все берется выразить, и в нем полностью отсутствует хотя бы тень простоты. Платон и Плотин умели выражать самое трансцендентное содержание в обыденных словах и житейских метафорах; на тысячах страниц текстов Прокла ничего подобного не найти. Слог Прокла все время равномерно приподнят, равномерно хитроумен, он не знает смены интонаций, повышений и понижений тона. Система сложнейших специализированных обозначений (не до конца "дешифрованная" историками философии) позволяет выражать любую мысль очень сжато, но с этим странно контрастирует любовь Прокла к нанизыванию синонимов, к повторам и плеоназмам, так что в целом его изложение сразу и сверх меры уплотнено, и сверх меры многословно. Не только фундаментальная концепция Прокла статична, но и сама его стилистика с неимоверной последовательностью исключает динамику интонации. Мир Прокла замкнут и исчерпан, и это ощущается на самых разных уровнях мыслительной работы и словесного выражения, сверху донизу.
Во-вторых, предшественники Прокла были окружены языческим обществом. Это относится к философам античности; это относится к Плотину, в окружении которого христианские гностики были только первыми ласточками какого-то иного культурного типа; это относится даже к Ямвлиху, который жил, в конце концов, еще до последнего конфликта язычества и христианства при Юлиане. Прокл жил после этого конфликта. Заключительная битва была дана и проиграна. Философа окружило христианское общество, идеология которого основывалась уже на категориях "священной истории"80. Все вокруг менялось: по известному выражению самого Прокла, скорбевшего о традиционных святынях, христиане "сдвинули несдвигаемое" (Marin. Vita Procli, 30). Но опыт неслыханного "сдвига" (хотя бы как опыт бедственной катастрофы) не вошел в кругозор мысли Прокла, оставаясь на уровне эмоций. Бывало, что именно переживание катастрофы оказывалось для мыслителя толчком, насильственно принуждающим задуматься о динамике истории, – так Августин под впечатлением от разгрома Рима вестготами Алариха написал свод христианской философии истории – трактат "О граде божием". С Проклом ничего подобного не произошло. Перед лицом современных ему исторических перемен его нечувствительность к истории особенно поражает.
Даже в свой смертный час античное язычество еще раз отказывает в серьезности всему, что не "пребывает", а всего-навсего "происходит". Мировой процесс, мыслимый как круговращение и вечный возврат, есть для богов Прокла предмет их смеха. "Мифы говорят, – поясняет он, – что плачут боги не вечно, смеются же непрестанно, ибо слезы их относятся к попечению о вещах смертных и бренных, и порой они есть, порой их нет, смех же их знаменует целокупную и вечно пребывающую полноту мирообъемлющего действования... Смех мы отнесем к роду богов, а слезы – к состоянию людей и животных81. Высший смысл усмотрен в гомерическом хохоте богов из первой книги "Илиады" (ст. 599-600), слезы презрительно предоставлены "людям и животным". Но в слезах, которыми упивались простые люди той эпохи, слушая рассказы о страданиях святых, было больше жизни и человечности, чем в этом отрешенном смехе.
Социальная действительность, просочившаяся и в доктрину Прокла, и в самый склад его речи, – это жизнь замкнутого, очень замкнутого кружка. Важно понять природу его изоляции. Дело не только в том, что язычники превратились в меньшинство, и меньшинство гонимое. В ту эпоху таков был статус очень многих конфессиональных групп (например, многочисленных и культурно активных христиан в Иране, давших, между прочим, Исаака Сириянина). Языческие анклавы суживались, но кое-где, например в деревенских местностях Греции или Финикии, они были еще очень обширны и очень стойки82. Среди язычников, как среди христиан, были питомцы разной социальной среды, люди ученые и простые крестьяне (хотя контраст был резче – язычества придерживалась либо самая изощренная аристократия духа, либо самая темная масса). И тут и там философией занимались только образованные верхи. И тут и там между верхами и низами было не слишком много взаимопонимания. Но на этом сходство кончается. Оказавшись в меньшинстве, язычники не составили гонимой "церкви" – такого социального образования, внутри которого элита и "простецы" могли бы вступать в конфликт, но и в контакт. Григорий Назианзин сравнил попытки язычников сконструировать подобие церкви с попытками обезьяны повторить человеческие действия; это сказано зло, но не совсем неверно. Поэтому Прокл и его товарищи были тем, чем не были учители самой слабой и самой гонимой из еретических общин тогдашнего мира: они были генералами без армии.
Каким бы двойственным ни было отношение христианских масс к своей элите, они не переставали чрезвычайно живо интересоваться догматикой, которую формулировала для них элита, вкладывая в эти формулировки какие-то собственные ассоциации (логику которых подчас трудно реконструировать). С точки зрения элиты, интерес христианских масс к теоретико-богословским вопросам был даже чересчур велик, опасно велик, и ему неплохо бы поставить пределы. Воззрения элиты выражены в известной жалобе Григория Нисского на то, что невозможно стало купить хлеба пли искупаться в банях, не услышав от булочника или банщика рацеи о соотношении ипостасей Отца и Сына83. У языческих неоплатоников мы такой жалобы не встретим. Булочник или банщик едва ли часто досаждал им, толкуя вкривь и вкось о переходе от Единого к Уму. Язычники из низов не проявляли ни малейшего интереса к метафизико-теологическим проблемам и материям; это не входило в их навыки религиозного поведения. Они довольствовались привычной обрядностью и попросту ничего не знали о различии между "сообщимым" и "несообщимым", между "Умом мыслимым" и "Умом мыслящим". Бормоча молитву языческим богам (и стараясь, чтобы его не застал за этим проходящий монах), крестьянин-язычник не думал о том. что божественный Прокл разделил молитвы на "демиургические", "катартические", "зоопиические" и "телесиургические", да еще строго предостерег против смешения этих видов84. Ему, в отличие от христианского простолюдина, никто не внушил, что он обязан интересоваться подобными вещами. Впрочем, что говорить о простых людях, если такой столп языческой элиты времен Юлиана, как Ливаний, будучи носителем не философской, а литераторско-риторической культуры, ничего и знать не хотел о неоплатонической доктрине! Чтобы оценить контраст, достаточно на мгновение представить себе вещь невозможную: чтобы какой-нибудь христианский коллега и соперник Ливания, т.е. блестящий столичный проповедник вроде Иоанна Златоуста, полностью игнорировал основы тринитарной догматики. Ему бы никто этого не позволил – но он бы и сам себе этого не позволил. Случай Ливания (конечно, далеко не единственный) показывает, что публикой неоплатоников был даже не весь хрупкий мирок языческой элиты. Публикой неоплатоников были сами неоплатоники, и притом не только по воле истории, но и по собственной воле.
Здесь есть один момент, которому не так легко отдать должное. В упомянутой жалобе Григория Нисского курьезно переходят друг в друга две разные, даже взаимоисключающие эмоции: досада интеллектуала-платоника, который полагает, что булочник и банщик – невежды, и тревога епископа, который обеспокоен тем, что они – еретики. Интеллектуал может отмахиваться от того, что происходит в головах профанов, но епископ не может. Булочнику и банщику от этого, мягко говоря, не всегда легче, но это другой вопрос. Их можно переубеждать, можно – и чем дальше, тем больше – подвергать мерам принуждения; нельзя оставить их за воротами, исключить из идейной жизни. Механизмы, действовавшие внутри "вертикальной" структуры церкви, приводили к тому, что человек элиты и человек массы принуждены были нечто требовать друг от друга и нечто давать друг другу. Интеллектуальная свобода того и другого была этим чувствительно ограничена, а противоречия между ними отнюдь не примирены. И все-таки несправедливо видеть в случившемся только регресс. Оба должны были принять друг друга всерьез и уже не могли попросту пройти друг мимо друга, как проходил неоплатоник мимо непосвященных. Человек массы получал от человека элиты некоторую возможность заглянуть за пределы своего будничного кругозора, человек элиты учился у человека массы той способности к надежде, секретом которой всегда владели неимущие. По крайней мере, так бывало в лучших случаях – например в случае Иоанна Златоуста и его слушателей, антиохийских и особенно константинопольских.