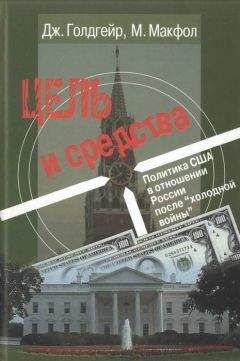Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
Критическое отношение к российскому прошлому и российским установлениям русские обычно проявляли с оглядкой на де Местра. Но вскоре его в этой роли заменил Ламенне, олицетворявший действительный поворот французской мысли от католичества к социализму. Выступив как обыкновенный католик-контрреволюционер со своим знаменитым призывом к возрождению веры в своем «Опыте о безразличии» (1817), Ламенне мечтал о новой «конгрегации святого Петра», которая заменит иезуитский орден и выведет Европу в преславную новую эру. Основав в 1830 г. журнал «Будущее» («Le Future») вскоре затем Ламенне разочаровался в католической церкви и обрел утешение в христианском социализме и страстной вере в духовность угнетенных масс. Его сочинения, наподобие деместровских, проникнуты особого рода провидческим пессимизмом. Он писал де Местру: «…все в мире приуготовляется для великой и окончательной катастрофы… теперь всюду крайности, и средней позиции более нет»[998].
Русские, обращавшиеся в католичество при Николае, обычно следовали заветам Ламенне, то есть стремились разделить нищенскую участь страдающих масс. Печерин, который стал католическим капелланом в Дублинской городской больнице, считал Ламенне провозвестником «новой веры» новых времен и был свято убежден, что угнетенные окраины Европы — единственная надежда ее гниющего центра. «Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории»[999]. Чаадаев тоже находился под влиянием Ламенне; тот обычно служил россиянам провожатым от первоначального увлечения католичеством к позднейшей преданности социализму. С российской точки зрения католицизм и социализм вовсе не казались так уж несовместимы, как считалось на Западе. И с той, и с другой стороны, по-видимому, открывалась возможность внесения общественной дисциплины и целеустремленности в инертное и беспорядочное российское существование.
Сен-Симон, чья историческая теория со временем стала вероисповеданием молодых западников, разделял глубинный страх де Местра перед анархией и революцией и восхищался той организующей ролью, которую играла католическая церковь в средневековом обществе. Призывая к «новому христианству», ограниченному этической сферой, и к новой иерархии, ограниченной сферой общественного управления, Сен-Симон и его ученик Огюст Конт выступали как проповедники учения, которое получило название «католицизм без христианства». Но если западных последователей Сен-Симона занимали его соображения о промышленной организации и классовых противоречиях, то россиян увлекала «широта и грандиозность его историко-философских взглядов»[1000].
Первым русским учеником Сен-Симона был декабрист Лунин, который напористо пропагандировал сен-симоновские идеи в своих письмах из ссылки после 1825 г. и которого заставило замолчать лишь тюремное заточение в 1841 г. Проповедь социализма не мешала его религиозной жизни: убеждения постепенно привели его в лоно римско-католической церкви. Романтический студент-воин, участник кампаний против Наполеона, Лунин почувствовал отчуждение от родной страны, оказавшись в Париже в 1814–1816 гг. и познакомившись с Сен-Симоном. Подобно Сен-Симону, Лунин вовсе не был сторонником революции или апологетом Запада в его неприглядном состоянии. «При вашем легкомыслии, — говорил он приятелю-французу Ипполиту Оже, оставившему записки о знакомстве с ним, — вам нужно только все легкое, игривое. Ну, а мы, жители Севера, любим все, что трогает душу, заставляет задуматься»[1001].
В 1816 г. Сен-Симон совершил один из своих редких выездов в свет, на фешенебельное парижское суаре, только затем, чтобы попрощаться с Луниным.
«Через вас, — будто бы сказал он ему, — я бы завязал сношения с молодым народом, еще не иссушенном скептицизмом. Там хорошая почва для принятия нового учения…
Суеверие считает, что золотой век когда-то был в далеком прошлом, тогда как он еще только будет со временем. Тогда опять народятся великаны, но они будут велики и сильны не телом, а духом. Машины тогда будут работать вместо людей; у всех будут семимильные сапоги, о которых говорится в сказках; они уже заготовляются теперь по приказанию великого вождя, другого Наполеона, который станет во главе армии рабочих.
Если вы меня забудете, то не забывайте, по крайней мере, пословицы: «Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь». Со времени Петра Великого вы все более и более расширяете свои пределы; не потеряйтесь в безграничном пространстве. Рим сгубили его победы; учение Христа взошло на почве, удобренной кровью. Война поддерживает рабство; мирный труд положит основание свободе, которая есть неотъемлемое право каждого»[1002].
Сен-Симону не довелось увидеть при жизни распространения своих идей. Его призывы к Александру I принять свое новое христианство как программу Священного союза пропали так же втуне, как позднейшее предложение его ученика Конта Николаю I взять на вооружение новую контовскую «систему позитивной политики»[1003]. И все же эти теологи прогресса были проницательны, адресуя свои грандиозные теории нации, «еще не иссушенной скептицизмом» или (по словам Конта) «ретроградным эмпиризмом». Пусть цари пренебрегли их новейшими историческими выкладками, зато обращенное к Западу дворянство приняло их близко к сердцу. «Духовно мы жили во Франции, — объяснял один из западников николаевских времен, М.Е. Салтыков-Щедрин. — …Я примкнул к тому… кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас»[1004]. Печерин расслышал у Сен-Симона «гигантские шаги близкого будущего»[1005]. И что самое важное, молодой Александр Герцен, принесший клятву отомстить за декабристов и быть верным их западническим устремлениям, не расставался с сочинениями Сен-Симона, «как с Кораном». Его московский кружок 1830-х гг. возглавил борьбу с шеллингианским философствованием и призвал обратиться к социальным проблемам; этот призыв стал характерным для новых радикальных западников.
После смерти Сен-Симона в 1825 г. один из его французских последователей Проспер Анфантен, который принялся за изучение философии и экономики 13 России, основал новую «симонистскую» религию. Некий ее адепт заявлял о своей тесной связи с Моисеем, Заратустрой и Магометом и туманно намекал на то, что он, может статься, являет собой реинкарнацию Христа в современном облачении. Россиян привлекало это странное, полусектантское движение; сен-симонистский журнал «Le Globe» находил в России заинтересованных читателей. Ранние единомышленники Герцена могут считаться своего рода ответвлением этого «нового христианства», ибо, хотя они не были исследователями промышленности или служителями культа учителя, как это полагалось в группе Анфантена, их вдохновляло сен-симоновское учение об истории. В 1833 г. Герцен целиком поддерживал тот взгляд, что история прошла трехступенчатое развитие от средневекового католичества к философскому протестантизму и от него к «новому христианству». Эта последняя фаза была «подлинно" человечной», не столько революционным преобразованием, сколько «обновлением» общества, призванным уничтожить бедность и войны путем систематического приложения научного метода к разрешению социальных и экономических проблем[1006]. Новая высшая прослойка общественных управителей и организаторов должна выработать современную, практическую форму христианства. Теория трех исторических ступеней, провозглашавшаяся выдвиженцем Сен-Симона Огюстом Контом, стала еще популярнее среди радикальных российских западников, когда ее в сороковых годах изложил Валериан Майков. Идея Конта, что все должно развиваться от теологической стадии через метафизическую к «позитивной», или научной, стадии, легла в основу представления об истории, господствовавшего среди народнической интеллигенции[1007].
Поначалу разница между западниками и славянофилами была невелика. Те и другие верили в некую новую форму христианизированного общества и не были расположены к революции и безоглядному уравнению сословий. Наклонность к идеализации крестьянской общины и народности, то есть «духа народа» как живительной исторической силы, была скорее характерна для славянофильства, но обнаруживалась также и у польских революционеров, и у радикальнейших западников. Народность для всех этих визионеров-реформаторов значила вовсе не то, что уваровское национальное чувство или популярность в западном электоральном смысле. Она означала неподдельную мудрость благородного дикаря, явленную в новейшем собрании народных пословиц Владимира Даля, народных песнях или стихотворениях Алексея Кольцова. Почти у всех ведущих социальных теоретиков были филологические или этнографические интересы, и все они гордились, что сочинитель из их поколения написал «Историю русского народа» в ответ на «Историю государства Российского» Карамзина[1008].