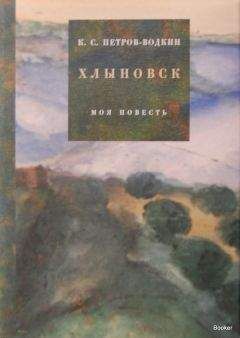К. С. Петров-Водкин. Жизнь и творчество - Адаскина Наталия Львовна
«Тайны», о которых говорит людям художник, в начале его творчества действительно сохраняют статус «тайны», с годами они меняют свой смысл, с ростом зрелости таланта оборачиваются глубоким осмыслением сущности самого человека и его связей с мирозданием. Мы должны помнить, что творчество Петрова-Водкина на любом этапе его эволюции невозможно понять без проникновения в глубины содержательности его образов, несводимых полностью к содержательности пластической формы, без попыток, приближения к архетипам его мифотворчества, его способов символизации действительности.
В ряде ранних полотен Петрова-Водкина главной и едва ли не единственной «тайной» оказывается сам художник, его душевное волнение и подъем в процессе творчества. Тогда радость от сделанного закономерно, прочно, ясно сама становится «тайной», о которой говорит художник миру, лишь слегка прикрывая ее оболочкой сюжетных толкований.
Таков «Сон», композиционным прототипом которого является юношеское произведение Рафаэля «Сон рыцаря», виденное Петровым-Водкиным в Национальной галерее в Лондоне. О том, что замысел картины не строился исключительно вокруг сопоставления двух женских аллегорий, свидетельствует история ее, начавшаяся с варианта, где участвовали три женские фигуры [72]. Это обстоятельство говорит о желании автора проявить самостоятельность по отношению к картине Рафаэля. Сближение с композицией классика могло произойти уже в ходе работы над полотном в процессе поисков его «закономерной» «абсолютной» живописной и композиционной формы.
Содержание этой картины нельзя свести к верхнему «сюжетному» слою: пассивному взаимодействию трех фигур, как бы мы их не обозначили. Оно лежит где-то глубже, оно не открывается полностью при расшифровке аллегорий. Не случайно так натужны трактовки сюжета: и версия А. Н. Бенуа (со слов автора) о «Красоте» и «Уродстве», ожидающих пробуждения «Человека-художника» [73], и более поздняя, также исходящая от Петрова-Водкина, об «оцепенении, в котором пребывала Россия» [74]. В первой, как мне представляется, больше правды: эмоции художника, его внутреннее горение замыкалось в тот момент на самом творчестве.
Но волновало его не столько философствование по поводу «болезненной Красоты» и «здорового Уродства», сколько собственная борьба с карандашом или кистью в руке за строгую суровость формы, за «закованную» красоту рисунка, за цельность непривычного для публики колорита, решительно подчиняющего серо-охристой гамме пейзажа нежную розовость женского тела… Как истинно символистское произведение «Сон», по версии дочери художника, высказанной ею в телевизионном интервью, имел и некоторое провидческое значение в жизни автора — предсказывал драматическую коллизию любви к двум женщинам в начале двадцатых годов.

Сон. 1910. Холст, масло. ГРМ
В итоге содержанием картины оказывается многогранный кристалл смыслов: обнаженный человек — пустынная природа, юноша — девы, спокойный сон — курящийся вулкан, обнаженные фигуры в «итальянском» пейзаже (итальянском и по мотиву, и ассоциирующемуся с живописью итальянских школ) и т. д. Художник уже в силах заставить нас воспринимать свои переживания как общедоступные картины, но еще далек от высшей убедительности символа, где разные грани сливаются в единый неразрывный смысл. Примечательно то, что сюжет, явившийся здесь не столько смыслом образа в целом, сколько мотивировкой живописи, в меньшей степени, чем живописная форма, занимал зрителя. Образ здесь еще не достиг безусловности символа, его разгадывали как шараду: «Картина допускает множество толкований: юноше снятся или Аристократия и Демократия, или Поэзия и Проза, или Идея и Материя и т. п.» [75].
Всеобщее внимание привлекала непривычная, острая форма. «Картина же Водкина, — писал Бенуа, — внушает мне именно своей художественной концепцией и задачей. Я бы сказал больше: мне скорее портит удовольствие именно ее сюжетность, которая наводит на рассудочные упражнения мозга, отвлекая от чисто художественных впечатлений. <…> Что в ней ценно — это ее твердая неукоснительная цельность. Все сделано одинаково методично и строго. Самое построение композиции внушительно своей выдержанной суровостью и строгостью. <…> Но я люблю еще и „римские“ краски Дзуккаро или Сальвиати: краски пустыни, исторических минований, аскетизма и покаяния, краски холодного, но бодрого предутрия или белой ночи в стране пасынков природы. Именно эти краски Фивиады, эти суровые, терпкие, „покаянные“ краски собраны у Водкина и звучат строгим, печальным, в то же время бодрящим аккордом…» [76]

Юность (Поцелуй). 1913. Холст, масло. ГРМ
Полотно получилось четкое, строгое, напряженное и в то же время гармоничное соразмерностью всех акцентов, пятен и форм, доказательное (в формальном смысле) и монументальное. Развитый глаз художников и критиков уловил значительность происшедшего. Бенуа сумел об этом убедительно написать. Репин отреагировал на предложенную концепцию живописной формы резким отрицанием…
В первой половине 1910-х Петровым-Водкиным был создан ряд лаконичных малофигурных композиций: «Юность. Любовь», «Изгнание из рая» и другие, отдаленным источником которых, возможно, была увиденная им в лондонской Tate Gallery картина Вильяма Стренга «Искушение» (1899), впервые показанная в 1902 году. Самой принципиальной из них была картина «Мальчики» (или «Играющие мальчики») — следующее этапное произведение. Его появление, вполне понятно как логичное развитие стиля: нарастание декоративизма и плоскостности (аналогичное движению Серова в работе над «Похищением Европы» или «Навзикаей и Одиссеем»), как попытка освоения достижений Матисса и окончательное освобождение от традиций Пюви де Шаванна.

Мальчики (Играющие мальчики). 1911. Холст, масло. ГРМ
Художник работал над «Мальчиками» весной 1911 года. Нам не известно, видел ли он до этого картину Матисса «Танец» (1910), появившуюся в коллекции Щукина осенью 1910 года. Известно, что Петров-Водкин был приглашен посетить эту коллекцию в 1914 году, однако исключить вероятность его знакомства с работой Матисса нельзя, учитывая почти буквальное совпадение колористического решения и близость мотива. В материалах 1908 года (времени пребывания во Франции) не прослеживается интерес нашего мастера к Матиссу. Вероятно, его высказывание на эту тему 9 декабря 1936 года следует считать позднейшей аберрацией: «Это идет от матиссовской музыки, от матиссовской культуры. <…> а может быть, это совпадение, потому что эта матиссовская музыка была затеяна при мне, когда я был в Париже, я знал, как это делалось. Так что, может быть, одновременное обдумывание одного и того же мотива и привело к такому результату» [77].
Факт создания этой картины становится объемнее и больше говорит о дальнейшей эволюции художника, если учесть, как это предложила О. Тарасенко [78], опыт непосредственно предшествовавшей «Мальчикам» работы над росписями в Васильевском Златоверхом соборе в Овруче осенью 1910 года. Знакомство с основами древнерусской стенописи дало художнику реальную возможность начать создание полотен лаконичных и концентрированно-экспрессивных по форме и образу, первым из которых стали «Мальчики».