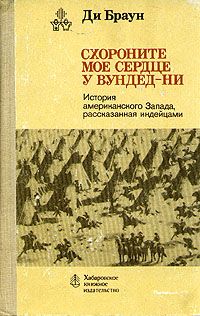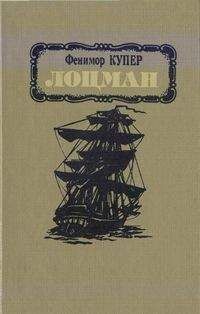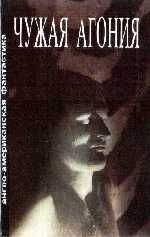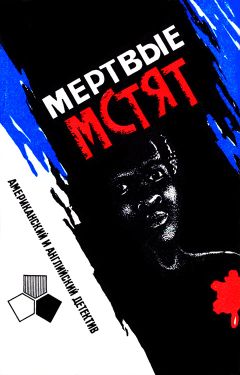Елена Айзенштейн - Из моей тридевятой страны
В стихах «Озябший гиацинт» отразилась интертекстуальная связь с балладой Жуковского «Светлана», не раз вспоминаемом Ахмадулиной, в качестве любимого образа и контекста («Раз в Крещенский вечерок…») и с «Молодцем» Цветаевой, где цветок превращается в Марусю – образ самого автора:
Горшок с цветком вселился во чертог
столь пасмурный, что и несхож с жилищем.
О чём гадать в Крещенский вечерок?
Его тепло посмею ль счесть излишним?
Обе эти сказочные, волшебные параллели ведут из подмосковного зимнего дня в мир искусства, в романтический мир поэзии, крещение которым сопровождало весь жизненный путь Ахмадулиной.
В одном из стихотворений 2002 года Ахмадулина заметила: «Стал непрогляден стог моих черновиков…».22 Большое количество незавершенных произведений было у Цветаевой за несколько лет до смерти. Множественность неоконченных замыслов – свидетельство поэтического кризиса или, напротив, примета того, что поэт слишком строго относится к своим произведениям? Вероятнее всего, и то, и другое. Язык поздних ахмадулинских вещей ‒это язык не эпоса, как считают некоторые ее критики, а слог диалога с собой, с собеседником из мира иного, с другом-читателем, когда мысль развивается, иногда не связанная явными, прямыми «мостками» смыслов, а диктуется внутренними воспоминаниями и размышлениями, скрытыми цитатами. По значительности творчество Ахмадулиной в нашей поэзии стоит сразу после творчества Бродского, а может быть, рядом с ним. Наверное, Бродский крупнее Ахмадулиной, тематически разнообразнее. Без ее поэзии невозможно представить лик Поэта нашего времени: Белла Ахатовна в начале 21 века является соединяющим с пушкинским веком лучом, каким была для своего времени Анна Андреевна Ахматова. Ахмадулина находится сейчас в роли такой королевы (предсмертное слово Ахматовой о Цветаевой), является воплощением красоты и грации речи, чистого истока русской словесности, питающегося из серебряного ковша, зачерпнутого Пушкиным, Цветаевой, Пастернаком. Иосиф Бродский, обращаясь к американским студентам, однажды сказал об Ахмадулиной перед ее выступлением: «Сейчас вы услышите лучшее, что есть в русском языке».23 И сегодня поэзия Ахмадулиной – высокая планка красоты слова, еще раз обнаруживающая, что «язык, который нам дан, он таков, что мы оказываемся в положении детей, получивших дар. Дар, как правило, всегда меньше Дарителя, и это указывает нам на природу языка» (И. Бродский). Дар Ахмадулиной, как определила она сама, «невзрачное растенье», такой же камерный, как упомянутая выше старинная виола. Иногда «прихоть чтения» требует одинокого, чуткого, певучего голоса, похожего на таинственный, бархатный голос альта, который споет свою музыку, расскажет свою Историю Души – о бесхитростном родстве Поэта и Природы. В стихотворении «Отсутствие черемухи» («Блаженство бытия») Ахмадулина писала, может быть, из суеверного человеческого страха:
В чужом столетье и тысячелетье
Навряд ли я надолго приживусь.
Ахмадулина прижилась в русской поэзии надолго, навсегда. «Блаженство бытия», «Сны о Грузии», «Вишневый сад», посвящения друзьям и современникам, пейзажная лирика ― последнее десятилетие поэта было по-человечески трудным, поэтически, творчески значительным. Вероятно, когда будут опубликованы ненапечатанные при жизни произведения Беллы Ахмадулиной (наверное, такие есть), эти публикации помогут нам лучше понять, полнее, объективнее осмыслить творческое наследие одного из лучших поэтов второй половины ушедшего века, первого десятилетия века 21-го.24
2012«На службе обожанья»
Белла Ахмадулина
Любовь – движущая сила стихов Беллы Ахмадулиной. Ее поэзия, как дом в одном из стихотворений, похожа на детскую копилку, туго набитую «судьбой людей, добром и злом», обожанием красоты природы. Для лирики Ахмадулина умела открывать «незначительные» поводы: цветение черемухи, медуницы, ландыша, мать-и-мачехи, чары белых ночей, созерцание дождя и сада, грозы в Малеевке. Она вечный Орфей, которого заставляли оглянуться розовое небо над лесом, берег Оки и Бёховская церковь, синий томик Мандельштама или рассвет в Репино. Ей необходимо было воспеть все совершенные миги бытия, остановить, подобно Фаусту, прекрасное мгновенье, воспеть «День-божество». Стих Ахмадулиной «падает пчелой на стебли и на ветви, / чтобы цветочный мед названий целовать». «Все вещества и существа» ищут благосклонного взора поэта, преображающего быт: «Люблю я дома маленькую жизнь, / через овраг бредущую с кошелкой». Особою властью над ее сердцем обладает город с его неповторимыми архитектурными чертами, будь это Петербург, Тбилиси или Москва, причем город становится более понятным, «своим» через сопоставление с речью: «Этот бледный, как обморок, выдумка-город – / не изделье Петрово, а бредни болот. («Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях…», 1984). Для Ахмадулиной «Санкт-белонощный град» прекрасен прежде всего своими призраками, – душами воспевших его поэтов.
Ахмадулина верна традиции, шедшей с пушкинских времен, – объясняться в любви к Грузии, мечтать о встрече с дивным, певучим краем: «Сны о Грузии – вот радость! / И под утро так чиста / виноградовая сладость, / осенившая уста. («Сны о Грузии», 1959) В одном из «грузинских» стихотворений Ахмадулина видит себя «обнаженной ниткой серебра, продернутой в … иглу Тбилиси» (1960). Ее восхищение Грузией не просто дань обычаю. Она много, с любовью переводила грузинскую поэзию: Т. Табидзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, А. Каландадзе, Т. и О. Чиладзе. Для нее Грузия – загадочный, фантастический, пьянящий сознание мир, особенно Тифлис, говорила она с удовольствием по-старинному, воскрешая в памяти страну Пушкина, Грибоедова и Лермонтова. Тифлис – ее «любовь» и «плач», и она возвращала дары, которые дарила ей Грузия своей красотой, в слове:
Природы вогнутый карниз,
где бог капризный, впав в каприз,
над миром примостил то чудо.
Возник в моих глазах туман,
брала разбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лег полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тамар.
Сотворение Грузии Ахмадулиной видится божественным капризом, прихотью художника. Город подобен улыбке Тамары. А сама Ахмадулина – Демон, «наповал» сраженный, навечно околдованный Грузией: «Я такая живучая, старый Тифлис, / твое сердце во мне невредимо» (1978). Поэтическое ремесло уподоблено ремеслу пекаря, неутомимо ныряющего головой в печной жар:
Ничего мне не жалко для ваших услад.
Я – любовь ваша, слухи и басни.
Я нырну в огнедышащий маленький ад
за стихом, как за хлебом – хабази.
В стихотворении «Собрались, завели разговор…» (1970) Ахмадулина видела себя родственником двора, чудом сохранившегося в Замоскворечье. Она не только помнила «свиток имен» московской истории, она сама ее голос, «душа-колокольчик» звонит в свои колокола вместо голоса Марины Цветаевой. Ахмадулина надеялась, что ее собственное существование не прервется после физического конца, что ее лирика – неотъемлемая часть Москвы, московской культуры:
Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
нас возвел незапамятный мастер.
Как живучие эти дворы,
уцелею и я, может статься.
Ну, а нет – так придут маляры.
А потом приведут чужестранца.
Автор не очень рассчитывал на прижизненное понимание. Для восхищенного «чужестранца» в 1970-ом сокровища России, в том числе, в области словесной, оказывалась желаннее, любопытнее, чем для сограждан… К счастью, прогноз оказался неверным. К Ахмадулиной при жизни пришло признание. Не переставать верить в свои силы, справляться с бытом Ахмадулиной помогал непоколебимый «союз мольберта с граммофоном» – «дом-артист» и муж, художник Борис Мессерер, которому посвящены многие ее стихи («Поездка в город», 1996). Мессереру обязаны читатели подготовкой и изданием «Сочинений» поэта в трех томах (1997).
Несмотря на то, что Ахмадулина неоднократно в разные годы писала о состоянии поэтического кризиса, все же «немым очевидцем природы» ей было быть неинтересно:
От неусыпной засады моей
не упасется ни то и ни это.
Пав неминуемой рысью с ветвей,
вцепится слово в загривок предмета. (1973)
Умение «вцепиться» в слово, свою поэтическую родословную Ахмадулина ведет от Цветаевой, не случаен в данном контексте образ рыси – намек на игру в семье Цветаевых (Марина дочерью Алей звалась Рысью). Когда Ахмадулина писала о духе азиатства в себе («Незапамятный дух азиатства / до сих пор колобродит во мне»), она писала об одиноком скитальце, кочевнике-поэте, и вспоминаются «Скифы» Блока, «Сказка о черном кольце» Ахматовой и мифическая татарщина «Ханского полона» Марины Цветаевой («Мне скакать, мне в степи озираться…», 1956). А февральская метель, февральские «любовь и гнев погоды» посвящены Борису Пастернаку: