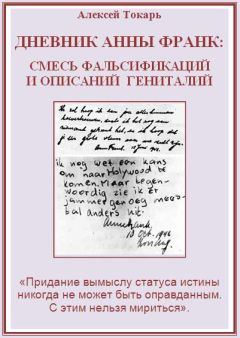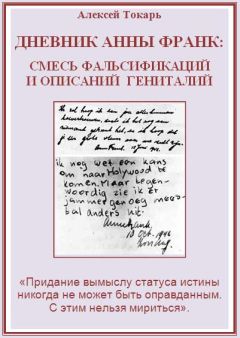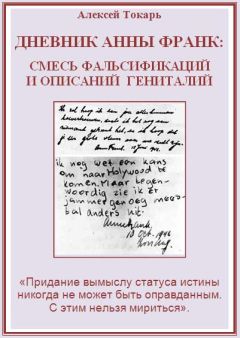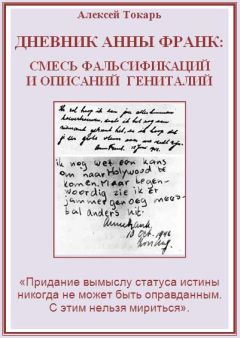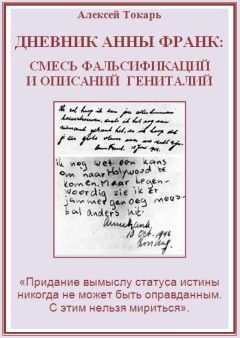Сергей Хоружий - "Братья Карамазовы" в призме исихасткой антрополгии
Прежде всего, сам образ совершенного, райского бытия, почерпнутый из мира ауры, стал парадигматическим у Достоевского, проходя в его тексте сквозною нитью. Ограничиваясь здесь последним романом, напомним, что в «Карамазовых» видение мира в райском образе обретает умирающий юноша Маркел, передающий его и своему младшему брату; а сей брат, став старцем и духовным учителем, в свою очередь, передает в своих поучениях основные черты этого видения. В «Идиоте», где видение райского бытия явно и прямо связано с эпилепсией, встает неизбежный вопрос о его оценке, его духовной подлинности и ценности, – и князь выступает с его убежденной апологией: «Что же, что это болезнь?...» и т.д. В «Карамазовых» образ райского бытия освобожден от какой-либо явной связи с эпилепсией, так что необходимости в апологии как будто не возникает. Но он не может утратить своей несомненной внутренней связи с эпилепсией – своего истока в мире ауры и своей эпилептической природы; это – тот же образ, что в «Идиоте», что во всем «дискурсе ауры» у Достоевского. И в силу этого, его оценка с исихастских позиций никак не может совпасть с полным его принятием у Зосимы. Видения, которые получает человек в состояниях душевного расстройства, духовная традиция заведомо не признаёт подлинными явлениями Божественной реальности. Тема о ложных видениях Христа, Богоматери, ангелов и святых, райского мира; о сомнительной и опасной природе религиозной экзальтации, всяческих «экстазов» и «исступлений», изобилующих в художественном мире Достоевского, – одна из исконных тем аскетической практики. Особой задачей этой практики была всегда выработка критериев распознания и приемов устранения феноменов ложного религиозного опыта, издавна именующихся тут прелестью (греч. planesis, plani). Но аспект строгой проверки духовного опыта, в высшей степени характерный для исихастской духовности, не выражен в голосе Зосимы. Вспомним здесь же и наши замечания выше об утопических элементах в этом голосе. В идейном плане, весь ряд наших замечаний связан с теми мотивами, которые с легкой руки Леонтьева именуются «розовым христианством». Но наше рассмотрение велось в ином плане, и мы сейчас видим в этих мотивах новую грань: те элементы, которые в идейном плане представляются «розовыми» или утопическими, в плане антропологическом оказываются элементами «дискурса ауры».
Качества, о которых говорит Вейдле, показывают другой род элементов этого же дискурса: элементы, что выражаются не в каком-либо образе или мотиве, но в определенных, восходящих к миру ауры свойствах всей художественной реальности Достоевского, его поэтики. Общую их природу мы обозначили бы собирательным термином гипер-гармония. Совершенная, ирреальная гармония мира ауры выражается в волшебной взаимосогласованности, полнейшей взаимной подогнанности и сообразности всех его вещей и событий – чем и порождается в нем чудесная легкость, беспрепятственность действия. У Достоевского в его художественном мире фактура существования включает массу конфликтов, страданий, зол, но в ней совершенно нет зазоров, лакун, зияний: тут все концы сходятся, все люди встречаются – и вступают в диалог. Последнее особенно важно. Если согласиться с Бахтиным, что роман Достоевского – диалогический роман, антропокосмос голосов-сознаний, то главное проявление гипер-гармонии этого антропокосмоса – его гипер-диалогичность. «Беспрепятственность действия» в этом диалогическом антропокосмосе означает, прежде всего, беспрепятственность диалога, который не знает невозможности, неудачи. Предпосылкой этого служит еще одна антропологическая черта, гипер-контактность персонажей Достоевского: всегда, когда это надо для диалога, они друг друга замечают и друг к другу обращены. Всегда все голоса слышат друг друга, и их диалог устанавливается поверх всех барьеров, переходит в диалог всех со всеми, диалог без меры, без удержу, без границ… Показательный пример этой гипер-диалогичности – Коля Красоткин, идущий по городку и без конца заводящий диалоги со всеми встречными, знакомыми и незнакомыми ему, без всякой иной нужды, кроме превращения мира в место тотального и самоцельного диалога. С этой гипертрофией диалога близко перекликается еще одна его особенность, восходящая если и не прямо к миру ауры, то, во всяком случае, к сфере психических аномалий, смещенных состояний сознания. Это – перевозбужденность, горячечность диалога и общения, их «перегретость», «аномальная температура». Рассказчик усиленно пронизал весь текст свидетельствами этой перегретости: необычная, поразительная доля реплик героев вводится глаголами и выражениями резкого аффекта: «завопил» (популярнейший глагол в диалоге «Карамазовых»), «взвизгнул», «взревел», «яростно крикнул», «истерически прокричала», «захлебывался», «задыхался», «продолжал как бы в бреду», «как безумный», «с надрывом воскликнул», «прокричала благим матом» (я выписываю наудачу) и т.д. и т.п. Ту же аномальность температуры выражает и близкая черта, указываемая Бродским: «В его фразах слышен лихорадочный, истерический… ритм»[28]. Статистический подсчет мог бы, пожалуй, установить даже степень, градус аномальной температуры дискурса. Эта особенность сразу бросается в глаза, и она была первой, пожалуй, с которой открылась тема о роли психопатологий в художественном мире Достоевского.
Сначала, как известно, эту тему воспринимали как некую шокирующую странность для дискурса belles lettres. Ее не умели встроить ни в идейно-философский, ни в эстетический анализ творческого мира писателя, и она оставалась изолированной, отдельной чертой, которую можно было счесть либо главной, первой по отношению ко всему комплексу прочих, «обычных» черт, либо последней – несущественной акциденцией. Первая опция, непомерно выпячивающая психопатологический элемент, избиралась преимущественно на Западе; оценки такого рода едва ли не преобладали в европейской рецепции Достоевского на раннем этапе[29] и продолжали занимать в ней видное место весьма долго – по крайней мере, до экзистенциализма включительно, уже не говоря о психоаналитической школе мысли. Напротив, отечественная критика и наука о Достоевском, вскоре уже после ранних отзывов, довольно усиленно выделявших в романе элементы «психиатрической истерики» (выражение Виктора Буренина), начали стойко избирать вторую опцию, чаще всего попросту обходя всю «психиатрию и патологию» полным молчанием. (Конечно, были и исключения – например, ценная статья Аскольдова «Психология характеров у Достоевского» (1925)). Этой традиции никак не нарушил и Бахтин, у которого мне вообще не удалось встретить сакраментального слова «эпилепсия»[30].
Меж тем, уже из наших незначительных замечаний видно, что дискурс ауры, как и в целом «дискурс психопатологий» в «Карамазовых», находит свои отражения в поэтике. Я бы предположил даже, что именно эти «эпилептические» черты поэтики Достоевского – гипер-гармония, гипер-диалогичность, аномальная температура дискурса – лежат в истоке того отторжения Достоевского, которое мы находим у ряда прозаиков, чутких к особенностям поэтики, – Джойса, Набокова и других. За Джойса особенно поручусь. Художественный мир Джойса – диаметральная противоположность миру гипер-гармонии, это, если хотите, мир гипер-дисгармонии, тотальной рассогласованности: его фактура целиком складывается из зазоров и нестыковок между вещами и событиями, из зияний, несовпадений, невстреч – и, конечно, из сплошных невозможностей диалога, провалов общения[31]…
Возвращаясь же к нашему главному предмету, мы констатируем, что в антропологии «Карамазовых», как и в поэтике (оба измерения художественного целого нераздельны!), также присутствует «эпилептический коэффициент». Имеется в виду, конечно, не плоский сюжетный факт, что в великом романе «слишком много душевнобольных». Все наши рассуждения потребовались, чтобы убедиться: эпилептический коэффициент, эпилептическую окрашенность несет сам антропокосмос романа в своем строении, несет «голосоведение» полифонии романа. И этот коэффициент не может не снижать, не сдвигать доминирующую ориентацию мира «Карамазовых» на мир исихазма. Таково последнее Contra к нашему центральному тезису об исихастском характере антропологии романа. Но, без сомнения, за ним может вполне последовать новоеPro.
2008 г.
Примечания
[1]
Доклад на симпозиуме «Искусство, творчество и духовность в “Братьях Карамазовых” Достоевского» (Колледж Святого Креста, Бостон (США), апрель 2008).
[2]
Здесь и далее ссылки на текст романа – по Полному собранию сочинений, первая цифра в скобках – номер тома, вторая – номер страницы.