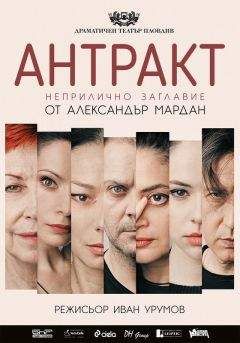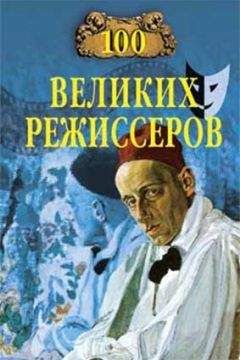Александр Воронель - Размышления
Роль посланца по своей структуре действительно воспроизводит рисунок жизни Моисея. Однако, проявив своеволие, убив египтянина, Моисей еще не приобрел авторитета у евреев. Этого оказалось недостаточно, чтобы стать их вождем. Потому ли, что и тогда это не соответствовало их обычаю, или просто потому, что он и сам не знал еще, какого рода справедливости жаждет его душа? Именно тогда от угнетенных и униженных, за которых он так великодушно вступился, он услышал: "Кто поставил тебя судьей над нами?" Быть может, этот вопрос он задал себе и сам?
После этого он ушел в изгнание на много лет и вернулся лишь тогда, когда был глубоко убежден, что его послал Бог. С тех пор он никогда не колебался и не отклонялся от своего призвания. Его слово превратилось в Закон для его народа. Для комиссара главное - кто его послал.
Карлу Марксу было уже труднее, но все же он искренне верил - Бог знает почему - что открыл Законы истории, и его посылает сама Историческая необходимость. Троцкому сначала пришлось ссылаться на Маркса, а когда по ходу событий все законы марксизма были нарушены, и он стал большевиком, его единственной опорой остался В.Ленин.
У Троцкого не хватило цельности опереться на себя самого и ему пришлось в конце концов представлять и осуществлять волю Ленина. Ленин всегда знал, чего хотел, хотя это не всегда было одно и то же.
Ленин задумал насильственный захват власти в Октябре, и Троцкий возглавил заговор и государственный переворот в России. Когда Ленин хотел Брестского мира, он послал Троцкого заключить этот мир. Ленин решил победить в гражданской войне, и он поручил Троцкому создать новую, революционную армию и привести ее к победе. Пока Ленин настаивал на военном коммунизме, Троцкому приходилось разрабатывать организацию принудительного труда, но когда Ленин решил перейти к НЭПу, он воспользовался планом Троцкого о развитии ограниченного свободного рынка. Всегда и всюду его комиссар оказывался на своем посту в качестве той чудесной "золотой рыбки", которая по волшебству исполняет желания. И Троцкий справлялся с этой ролью. Сам Ленин оставался при этом вне критики, отчасти по состоянию здоровья, отчасти благодаря ореолу, созданному ему Троцким и другими комиссарами в большевистском руководстве. Все претензии, что по поводу "похабного" Брестского мира, что по поводу людоедского военного коммунизма, должны были адресоваться Троцкому и, в конце концов, адресовались ему. Он до сих пор обвиняется во всех "перегибах" Советской власти.
На ущербе революции Троцкий не сумел противостоять Сталину не потому, что он ошибся в том или в этом. Он сплоховал как личность. У него не хватило решимости громко заявить свое "я". Грубо говоря, будучи евреем, он способен был бы победить во внутрипартийной борьбе только, если бы гордился этим, как лорд Дизраэли. А он все пытался выступать от имени Ленина, не будучи в точном смысле слова его верным последователем (ибо был слишком самостоятелен), от имени Партии, в которой он никогда не мог получить большинства (ибо он был слишком требователен для массовой партии), от имени марксизма, который с таким оглушительным треском провалился в России...
А Сталин в это время, хоть и негромко, уже сказал свое "я!", создав у многих членов партии впечатление, что им при нем будет спокойно. Социализм для них вполне может быть построен в их отдельно взятой стране (то есть их руководящее положение сохранится и впредь), а демократизация и "перманентная революция" не повиснут над ними, как дамоклов меч. В двадцатых годах и в руководстве партии, не говоря уж об обывателях, накопилась свинцовая усталость от ленинских грандиозных проектов и революционного горения. С неосознанным облегчением проводив в последний путь своего слишком строгого бога, построив ему египетскую пирамиду посреди Красной площади, его бывшие соратники вовсе не были расположены теперь голосовать за его посланца и творческого продолжателя. Они предпочли спокойного, делового исполнителя (как им казалось) их коллективной воли.
Все они погибли еще раньше Троцкого. На его глазах погибли также и все его сторонники, два его сына и обе дочери. Лев Троцкий учил языки по Библии, но вряд ли был достаточно внимателен к самому тексту. Поэтому он бы не понял, если бы человек, который приуготовил ему его участь, сказал, что поступит с ним, как Навуходоносор поступил с царем Цидкиягу** (Седекией в русском произношении). Этот человек, бывший студент Тифлисской духовной семинарии, Иосиф Джугашвили, знал, конечно, Книгу Книг и понимал человеческую натуру гораздо лучше Троцкого и опирался только на себя. Заботы о справедливости никогда не отягощали его душу.
** "И сыновей Седекии закололи перед глазами его". 4-я Книга Царств, 25: 7.
В ПОИСКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
Неправда, что все на свете меняется. И совсем не все течет. Громадная часть нашей реальности, называемая прошлым, никак не может измениться. И она никуда не утечет, если мы не позволим настоящему исказить ее ради какой-нибудь практической выгоды. С годами этот объем накопленного капитала растет у каждого, и если не отдавать его на волю инфляции, не спекулировать на повседневной бирже, можно почувствовать себя богаче. В известных пределах, конечно.
Этот путь открыт не только отдельному человеку, но и целым народам. Можно ли предвидеть, чему научит прошлый опыт наших бывших соотечественников? Конечно, в первую очередь от этого зависят судьбы России. Но поскольку Россия, в обычно употребляемом смысле слова, давно уже превратилась в СССР - сверхдержаву, державшую в напряжении весь мир, - судьба всего мира зависит от того, что извлечет из своего прошлого следующее поколение русских людей. А ведь это определится, главным образом тем, что из их прошлого до них дойдет. В форме ли непререкаемой научной истины или соблазняющего подпольного мифа...
По-видимому, в обеих формах самые яркие споры в ближайшие десятилетия будут происходить вокруг имени А. Солженицына, взявшего на себя лично задачу вместить историческое сознание своего народа. Для нас, нынешних израильтян и бывших русских евреев, к счастью, нет необходимости принимать взгляды Солженицына или отвергать их. Мы, как и весь остальной мир, кроме России, находимся на периферии его внимания и не составляем существенной части аудитории. Он пишет не для нас. Этот определяющий факт не сразу доходит до русскоязычного читателя на Западе и до потенциального эмигранта в СССР. Однако, в том, что он пишет, содержится много важного и для нас.
Попробуем понять его, не примешивая собственных пристрастий, не сверяясь со своими интересами. Как рекомендуют философы: "Не восторгаться, не негодовать, но - понимать".
"ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ". ЖАНР.
В соответствии с русским идеалом писателя, от которого ожидают больше, чем литературы, Солженицын в своих последних книгах строит свою собственную историю, социологию и антропологию России ХХ века. Погруженный с головой в этот грандиозный замысел, он сплошь и рядом перестает быть писателем, и выяснением для себя увлекается больше, чем изложением для читателя. Человек, взявший почитать его роман перед сном, вскоре отложит книгу.
Вопросы, на которых останавливается его испытующий дух, приличествуют скорее титанам, на чьих плечах держатся небеса, чем простым смертным, ищущим как бы избежать личной ответственности прочтением великого писателя: "Извечная проблема, нигде не решенная и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей, или как заковать в обязанности, не давая прав?"
Если в "Архипелаге ГУЛаг" такая особенность была предварена подзаголовком - в "Августе 14-го" приходится объяснять такое отклонение от "нормы" уже в самом тексте: "Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки..."
Конечно, русская история семи последних десятилетий дает достаточно веских поводов оправдать любое жанровое отклонение. Но, еще за сто приблизительно лет до Солженицына, и Лев Толстой то и дело прерывал свое повествование, чтобы на десятках страниц высказывать свои взгляды на историю, социологию и природу человека, несмотря на то, что историки тогда еще наслаждались безопасностью, а история России не была, по-видимому, изломана.
Как и Л. Толстому, А. Солженицыну тесны жанровые рамки, и его роман - не совсем роман, а "повествованье в отмеренных строках", и книги его - не книги, а "узлы". Можно понять тех, кого это раздражает, но суть дела здесь все же, по-видимому, не в тщеславии выдумать новое слово, а действительно в ином принципе, который делает творчество Солженицына в такой же степени "новым", как и "архаическим".