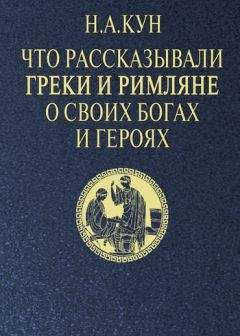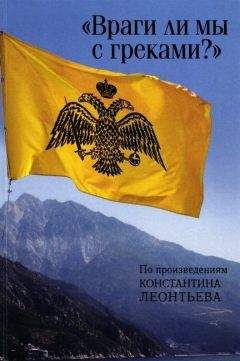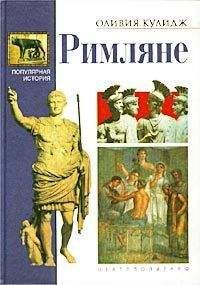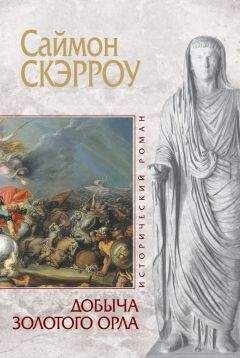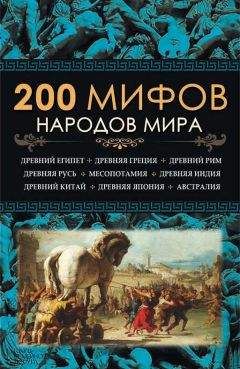Константин Леонтьев - «Враги ли мы с греками?». По произведениям Константина Леонтьева
Падение Турции задержалось бы дольше, чем нужно для будущности Востока; или бы стала возможнее эллино-византийская империя, что для Православия хуже всего; ибо два слишком сильные православные царства, Россия и сильная морская, богатая, торговая Эллада, пребывая в постоянной и неотвратимой борьбе, растерзали бы и самую Церковь. Именно два преобладающие царства опаснее многих единоверных и неравносильных царств для мира Церкви. Вот почему я сказал, что факты в одно и то же время и церковнее, и словно случайно с виду (а, несомненно, по смотрению Божию) премудрее всех соображений наших.
Сила Божия и в немощах наших познается…
Русская иерархия воздерживается от явного вмешательства… Она остается формально правою, к отчаянию афинских демагогов!..
Напрасно ждал афинский прогрессист от России грубой племенной политики!..
Святейший Синод после объявления схизмы безмолвствует. Он, как слышно, твердо решился не отвечать, „пока на Востоке не успокоятся страсти“.
Официальная Россия в лице генерала Игнатьева чтит Патриархию. Он едет к Патриарху на праздник парадно: в мундире, орденах, с огромной свитой; к экзарху болгарскому, если случится, официальная Россия заезжает в будничном штатском платье, так, как может заехать ко всякому турку-дервишу.
Еще попытка… Афон. Секвестры бессарабских имений…»[65]
В то время со стороны русских властей были допущены «неудачные», по выражению Леонтьева, распоряжения по отношению к греческим на Афоне монастырям, которые имели свои имения в Бессарабии. Попытка отобрать эти имения не была сообразна ни с силой России, ни с ее достоинством. К тому же святогорские монастыри были вовсе не виновны в увлечениях и ошибках греческой нации и Патриархии.
«…Вот придирка в руки афинскому либералу!.. Россия хочет вступить на узкий путь князя Кузы[66]… „Нас, греков, хотят испугать; хотят затронуть наши корыстные чувства… Тем лучше, — воскликнет прогрессист-патриот. — До сих пор наши монахи были почти все за Россию. Теперь будет иное… И строгий аскет, которому лично ничего не нужно, усомнится впервые в России… Он скажет: не мне нужны деньги; Церкви нужна внешняя вещественная сила… И он отвратит лицо свое от России и впервые поверит нам, афинянам, когда мы скажем ему: видишь, отче, ты ничего не знаешь, что делается на свете… Теперь Россия уж не та, которую ты знал и за которую ты так пламенно молился в своем уединении“.
Однако и эта радость не была продолжительна!
Русское правительство объявляет во всеуслышание, что оно бессарабские имения считает неотъемлемою собственностью Святых Мест, что оно не конфискует их никогда, но налагает на них как бы временную опеку вследствие беспорядков в управлении ими.
Оно уже снова высылает доходы греческим монастырям.
Но все-таки толчок дан… Буря, которая кипела в Царьграде, в Иерусалиме, в Антиохии, отозвалась наконец и на тихом Афоне!»[67]
Леонтьев отмечал, что, несмотря на то, что в афинском правительстве преобладали в то время эллины вовсе не дружественные ни нам, русским, ни Православию вообще, в простом греческом народе, особенно среди турецких подданных, политическая преданность православной России была еще велика. Простые греки по-прежнему серьезно смотрят на Православие, им еще страшно вымолвить слово против Православия, но и они уже начинают бранить Россию за потворство схизматикам[68].
Монахи афонские тем более в подавляющем большинстве жили своей особой жизнью: не греческой, не болгарской, не русской. Некоторое исключение составляли только богатые проэстосы из монастырей идиоритмических (необщежительных). Эти проэстосы в монастыре имели несколько комнат, в банках или своих сундуках — большие деньги: «они сидят в шелковых рясах на широкой софе турецкой, курят наргиле[69], едят мясо в скоромные дни»[70].
Они представляют свою обитель, а по нужде и весь Афон, ездят в Афины, Стамбул, Одессу, Кишинев и т. д. Своей светскостью, своим богатством, связями, своим весом они бывают иногда в высшей степени полезны всему Афону: за проэстосом и аскету легче совершать свои подвиги[71].
Раздражение у греков, по словам Леонтьева, «росло, но преимущественно в городах, а на Афоне все это для большинства монахов, занятых молитвой, постом, богослужением, работой и мелким рукоделием, было незаметно и, прибавим, для многих… для очень многих даже и неважно. Личные религиозные вопросы об отношениях нашего ума и сердца к Богу, Церкви и жизни занимают большинство афонцев, как и следует, гораздо больше, чем спор греков с югославянами за политическое преобладание в Турции или вопросы внешней церковной дисциплины, вроде отношения экзархата болгарского к Патриархии Константинопольской.
Я был в это время на Афоне и глядел на это множество людей разных наций, простых и ученых, бедных и когда-то богатых в миру, которые столько молятся и трудятся, так мало спят, так много поют по ночам в церкви и постятся, — я думал часто, как оскорбительно должно быть многим из них это внедрение сухих политических страстей в их отшельническую жизнь!
К счастью, большинство этих людей, русские, греки и болгары, живут, по-прежнему, своей особой афонской, не русской, не греческой и не болгарской жизнью, и до них едва доходят отголоски этой борьбы, исполненной стольких клевет и несправедливостей.
Не ангелами во плоти я хочу представить монахов. О нет! И у них есть свои интересы, свои ошибки, свои падения и страсти. Распри в обителях, расстройства в среде братии, восстания происходили в монастырях в самые цветущие времена христианства — во времена отцов Православной Церкви; жития святых наполнены подобными событиями; даже такой монашеский наставник, как знаменитый Иоанн Лествичник, предполагает в монахе возможность развития всех страстей и пороков при нерадении или при самоуверенности.
Идеал монахов, может быть, и состоит в том, чтобы приблизиться к бесплотности и бесстрастию ангела; многие из них могут и достигать почти полного бесстрастия долгой борьбой, но большинство монашества всегда было и не может не быть лишь колеблющимся и нетвердым резервом высшего подвижничества. Без нерешительной толпы невозможны герои аскетизма, и если на Афоне, например, из 8000 иноков найдется тысячи 2–3 очень хороших, добрых и искренних, хотя и слабых иногда, и 500 людей высшего разряда, достигающих образцовой жизни в различных положениях, игумена, духовника, пустынножителя или хотя бы обыкновенного рабочего монаха в многолюдной обители, то Афон может быть признан достаточно исполняющим свое назначение. Он таков и есть. И если при этом случаются ссоры и несправедливости, то без них нет жизни духовной, нет испытаний, нет борьбы с дурными страстями. Я хотел всем этим сказать вот что: на Афоне всегда, как и везде, могли быть раздоры, могли совершаться несправедливости и проступки, но все эти несогласия и раздоры имели до сих пор в виду не эллинизм, не болгарство, не руссизм, а те из временных интересов, которые прямо и непосредственно относятся к монашескому быту. Вопросы об избрании игумена более строгого или более мягкого, вопрос о насущном хлебе для братии, о воздвижении нового храма, о распоряжении кассой монастырской, о хранении древнего чина и устава… Вот предметы, которые могли и могут быть причинами распрей или борьбы между монахами, живущими не в пещерах или отдельных кельях, а в многолюдных общинах.
Самые дурные страсти, которые могут временно волновать монастыри и монахов, менее вредят общему духу и общему строю монашества, чем высокие принципы, если их вносят некстати в монашескую жизнь.
Что́ может быть лучше и благороднее патриотизма, и можно ли запретить человеку сочувствовать каким-либо успехам народа, из которого он вышел, любить свое отечество оттого только, что он надел монашескую рясу и дал искренний обет отречения? Невозможно! В этом чувстве нет ничего дурного, пока оно не становится в противоречие с долгом монашеским…
Изгнанные из Бессарабии проэстосы в шелковых рясах возвратились на Святую Гору, одушевленные нерасположением к России. Особенно отличается этими чувствами некто о. Анания, ватопедский инок, лукавый, настойчивый, сам лично очень богатый; патриот эллинский, пожертвовавший недавно на Афинский университет такую большую сумму денег, что ему, как рассказывали тогда, правительство эллинское дало, чтобы почтить его, особый, нарочный пароход для возвращения на Афон.
Люди, подобные Анании, нашли средство, как подействовать издали и лукаво на иноков совершенно иных убеждений и жизни…
Вся злоба, вся интрига, вся эксплуатация разнообразных страстей и искушений, от которых наилучшие монахи (по свидетельству самих отцов Церкви) не застрахованы никогда вполне, направилась против русских монахов св. Пантелеймона, которые славились и на Св. Горе, и далеко за ее пределами своею высокою жизнью и великолепным, примерным во всех отношениях строем своей обители.