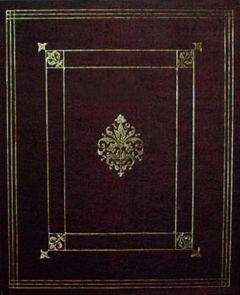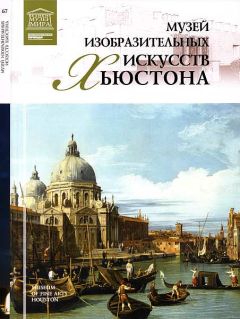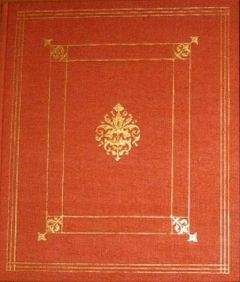Марина Бессонова - Избранные труды (сборник)
Вотивная картина середины XVII века, запечатлевшая несчастья Йозефа Эротца, демонстрирует, что воистину, «жизнь прожить – не поле перейти». Йозеф Эротц падал с крыши; на него на льду перевернулись сани с впряженным в них быком; он чуть не утонул, сплавляя лес; едва не отрубил себе руку топором, а потом еще вдобавок рассек голову и, наконец, слег, сраженный тяжелой болезнью, но благодаря милосердию Всевышнего остался жив. Это целое житие простого обыкновенного лесоруба, пронизанное истинным благочестием.
И вот спустя почти три столетия чешка Марианна Кирхнер, используя древнюю житийную схему, создает свое горькое ex voto; она тоже осталась жива, пройдя через ужасы фашистской оккупации. Бесспорно, скромному деревенскому мастеру вотивов далеко до изощренной образности современной наивной художницы. К тому же Марианна Кирхнер в своем стиле ближе не к вотивам, а к распространенным в наши дни журнальным и газетным комиксам, однако кровная связь с вотивами налицо.
Наивных художников наших дней и сельских маляров, альфрейщиков прошлого, выполнявших заказы благочестивых прихожан, объединяет многое: простодушная повествовательность, наглядность, стремление к точной передаче деталей, конкретизирующих ситуацию, но при этом лишенных натурализма; а также внедогматическая назидательность, заключающаяся в сознательном выборе темы живописного рассказа, который, по мнению авторов, сам по себе указывает на ее значительность. То, что ничего не значит или не может быть выявлено в наглядном живописном изображении, просто не может быть сюжетом, поводом для работы. Для мастера вотивов, как и для собственно наивного художника, живопись (как процесс работы, так и ее конечный результат) не является простым объектом эстетического наслаждения. Это прежде всего стремление выразить на дереве, холсте или клочке бумаги то, что кажется самым важным в жизни индивида, поведать об этом всем. Этим объясняется и столь явная иконная «житийность» вотивных табличек и сюжетных картин наивных художников, всегда окрашенная благоговением перед жизнью, ощущением радости каждого прожитого дня с его неповторимыми впечатлениями, которые представляются ничтожными лишь чужому, постороннему взору, но драгоценны для автора и заказчика.
Эстетические категории, поставленные сознательно вопросы стиля, авторского почерка и профессиональной грамотности отступают на второй план. Мастер вотива берется за кисть потому, что это необходимо – он получил конкретный заказ, который некому больше исполнить; наивный художник подходит к мольберту только тогда и на том этапе своей жизни – крестьянина, рабочего, служащего, ремесленника или домашней хозяйки, – когда ему необходимо выразить свои впечатления от увиденного, услышанного или прочувствованного в красках. За него это никто больше не сделает, и его абсолютно не волнует проблема, как он это исполнит. Сопоставление с работами непрофессиональных живописцев наших дней, психология которых более доступна пониманию исследователя, нежели феномен Руссо и Пиросманашвили, показывает, что из вотивной таблички на разных этапах ее формирования у отдельных мастеров получается наивная станковая картина. Все зависит от степени индивидуальности мастера и его находчивости в изображении отдельных, с профессиональной точки зрения, полуремесленных приемов, с помощью которых он не задумываясь, за достаточно короткий срок исполняет похожие друг на друга картины, отмеченные, однако, для смотрящего на них печатью личности автора. Таким образом, именно среди мастеров ex voto XVII, XVIII веков и первой половины XIX века можно найти предшественников и Руссо и Пиросмани.
Поэт и Муза Анри Руссо
Милый Руссо, ты слышишь нас
Мы тебя приветствуем
Делоне его жена мсье Кеваль и я.
Пропусти наш багаж без пошлины через
небесные ворота.
Мы везем тебе кисти краски и холсты,
Чтобы свой священный досуг в истинном свете
Ты посвятил живописи и написал, как ты сумел написать
мой портрет
Звездный лик[2].
Эти строки через год после смерти Анри Руссо написал мелом на его надгробном камне Гийом Аполлинер, один из немногих современников (вместе с супругами Делоне и хозяином дома, где жил Руссо, месье Кевалем), любивший и понимавший искусство Таможенника. Портрет, о котором идет речь в эпитафии, был окончен в 1909 году, за год до смерти художника, экспонировался в Салоне Независимых, где вызвал немало насмешек публики, а позже попал в московскую коллекцию С.И. Щукина[3]. В Салоне Независимых этот портрет фигурировал под названием Муза, вдохновляющая поэта[4].
Поэт держит гусиное перо и свиток, простые атрибуты, объясняющие его ремесло. Рядом, чуть сзади поэта, стоит Муза с распущенными рыжими волосами и гирляндой цветов на лбу и груди. Правая рука Музы поднята в ритуальном жесте, левой она обнимает поэта и подталкивает его вперед, к зрителю. Поэт одет по моде 1900-х годов: на нем черный выходной костюм, жилет и белоснежная рубашка с галстуком-бабочкой. Тело Музы скрыто под античным пеплосом. Поэт имеет вид добропорядочного буржуа со свадебной фотографии, Муза – дебелой пышногрудой матроны. Фигура поэта отличается крайней диспропорциональностью, руки его одна короче другой, с противоестественно большими кистями и фалангами пальцев.
Анри Руссо. Муза, вдохновляющая поэта (Поэт и муза). 1909
Портрет поэта Гийома Аполлинера и художницы Мари Лорансен
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва
Создается впечатление, что его туловище составлено из разномасштабных половин, причем левая длиннее и шире правой. У Музы слишком большая голова с лунообразным лицом, вросшая в плечи, и приставленная к ее телу «чужая» гигантская рука. У ног поэта и Музы не растут, а скорее, воткнуты одинокие левкои на высоких тонких стеблях; за их фигурами написаны заросли стеблей и ветвей между двумя деревьями с голыми черными стволами и переплетающимися кронами. Впечатление лубочной гротескности становится еще более сильным при попытке отождествления изображенных на портрете поэта и Музы с их реальными прототипами – поэтом Гийомом Аполлинером и его возлюбленной, художницей Мари Лорансен.
В жизни Аполлинер был плотным крупным мужчиной; на портрете художник изобразил маленькую субтильную фигурку с пухлыми щеками, надутыми губами и огромным приплюснутым носом. Высокая и стройная Мари Лорансен, по словам Гертруды Стайн, похожая на портреты Клуэ[5], у Руссо превратилась в монументальное изваяние истукана со скуластым круглым лицом, раздувшимися ноздрями и широко расставленными миндалевидными глазами. Модели (Аполлинер и Лорансен) как бы попали в царство кривых зеркал, и художник навеки запечатлел их искаженные отражения. И так же, как смеются на аттракционе с кривыми зеркалами, смеялась публика на выставке перед портретом Руссо. Его картины неизменно вызывали у людей начала века приступы гомерического хохота. Поэт и Муза[6] и сегодня вызывает у неискушенного зрителю улыбку.
В наши дни, когда имя Анри Руссо прочно вошло в историю современного искусства, заняв в ней одно из самых почетных мест, ни одна из посвященных ему монографий не обходит молчанием историю парадоксального конфликта его творчества с публикой и критикой на рубеже веков[7]. Картины Руссо не принимали всерьез в качестве произведений искусства. На выставках Независимых было довольно много дискуссионных полотен, способных поразить зрителя новизной живописной техники и необычайностью манеры, но посетители толпой устремлялись к полотнам Руссо[8]. Здесь можно было вдосталь посмеяться. Сегодня эти трагикомические факты творческой биографии Руссо стали частью легенды, написанной о нем историками искусства и современниками[9]. В свете этой легенды Руссо предстает непризнанным гениальным самоучкой-примитивом, добрым и простодушным, вечной мишенью для насмешек толпы, мужественно и кротко сносившим все издевательства. Попробуем со всей серьезностью отнестись к проблеме смеха над портретом Руссо Муза, вдохновляющая поэта.
Авторы монографий о Руссо, для которых примитивизм в искусстве – хорошо изученное явление, объясняют все искажения моделей в его портретах, схематизм построения фигур и относительную лубочность цвета особенностями восприятия мира и методом работы художника-самоучки, видящего натуру непосредственно, просто, но и остро индивидуально. Такой художник не ставит перед собой специальных формальных задач, а потому воспроизводит на холсте без особых колебаний не копию с натуры, но результат своего индивидуального фантастического ее восприятия, бессознательно устраняя самоограничения авторского произвола. При этом сам примитивист не сомневается в достоверности изображенного. Коллекционер Уде, лично знавший Руссо, очевидно, смотря на его портреты, пришел к выводу, что художник очень мало знал окружавших его людей, игнорировал их занятия и мысли. «Он не знал, что разделяет людей; он был слишком прост, чтобы замечать трудности, осложняющие наше существование… Когда он писал портрет – главное, что его занимало… передать душу человека такой, как он ее понимал»[10]. Можно ли безоговорочно согласиться с мнением Уде и достаточно ли его для объяснения природы гротеска в портрете Руссо? Абсолютно ли прямолинейны образы поэта и Музы в картине? То есть следует ли считать изображенных просто Гийомом Аполлинером и Мари Лорансен, увиденными глазами примитива Руссо, и тем самым примириться с проблемой сходства?