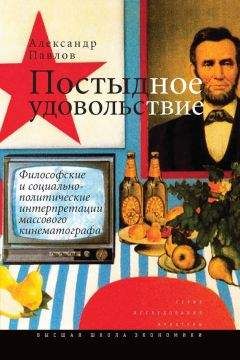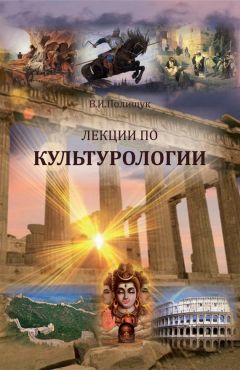Владимир Набоков - Лекции о драме
До сих пор я рассматривал главным образом зрительскую сторону дела: осведомленность и невмешательство. Но разве нельзя представить себе актеров, которые, руководствуясь прихотью драматурга или какой-то давно износившейся идеей, все-таки видят публику и обращаются к ней со сцены? Иными словами, я пытаюсь выяснить, точно ли в этом, по моему мнению, необходимом законе, необходимой и единственной условности сцены, нет никакой лазейки? Я помню несколько пьес, где этот трюк использовался, однако решающим в этом приеме является то обстоятельство, что, когда актер подходит к рампе и обращается к публике с предполагаемым объяснением или пылким призывом, эта публика является вовсе не реальной, сидящей перед ним публикой, но той, которую создал в своем воображении драматург, то есть чем-то таким, что все еще относится к сцене, театральной иллюзией, набирающей тем большую силу, чем естественнее и непринужденнее такое обращение. Иначе говоря, черта, которую персонаж не может перейти без того, чтобы не нарушить ход спектакля, это как раз и есть отвлеченное представление драматурга о своей аудитории; как только он начинает видеть в ней розоватое скопление знакомых физиономий, пьеса перестает быть пьесой. Вот вам пример: мой дед с материнской стороны, большой русский оригинал, надумал устроить у себя в доме частный театр{108} и приглашал величайших актеров своего времени, чтобы те развлекали его самого и его друзей — завзятый театрал, он был на дружеской ноге с большинством артистов русской сцены. Однажды вечером в одном из театров Санкт-Петербурга прославленный Варламов{109} изображал человека, пьющего на веранде чай и одновременно беседующего с прохожими, которых публика видеть не могла. Роль эта Варламову наскучила, и в тот вечер он решил разукрасить ее кое-какой безобидной отсебятиной. Так вот, в некий миг Варламов повернулся к моему деду, которого углядел в первом ряду, и совершенно естественно произнес, словно продолжая разговор с воображаемым прохожим: «Кстати, Иван Василич, боюсь, не удастся мне закусить с вами завтра». И только потому, что Варламов был великим волшебником и ухитрился так натурально вставить эту фразу в сцену, моему деду даже в голову не пришло, что его друг действительно отменяет назначенное на завтра свидание, — иными словами, власть сцены такова, что даже если, как иногда случается, актер посреди своего выступления падает в глубоком обмороке или рабочий сцены после поднятия занавеса, совершив ужасную оплошность, оказывается на сцене среди персонажей, зрителю на осознание этого несчастья, этой ошибки требуется гораздо больше времени, чем на осознание любого из ряда вон выходящего события, произошедшего в зрительном зале. Развейте эти чары, и вы погубите спектакль.
Поскольку моя тема — это ремесло драматурга, а не постановщика, я не буду вдаваться в то, что в конечном итоге привело бы меня к обсуждению психологии актерского мастерства. Меня интересует, повторяю, лишь проблема одной условности, правильное понимание которой позволит подвергнуть резкой критике и отвергнуть другие, более мелкие условности, отравляющие драматургию. Я надеюсь показать, что постоянная оглядка на них медленно, но верно убивает сочинение пьес как искусство и что избавиться от них навеки не так уж сложно, даже если это потребует изобретения новых средств, которые в свой черед обратятся со временем в традиционные условности, каковые опять-таки придется отбросить, когда они окостенеют и начнут сковывать искусство драмы, угрожая ее существованию. Спектакль, в основе которого лежит изложенный мною принцип, можно уподобить часам; но если драма превращается в игру с публикой, она уподобляется заводному волчку, который, столкнувшись с препятствием, взвизгивает, валится на бок и замирает. Отметьте также, что принцип действует не только тогда, когда вы смотрите спектакль, но и когда вы читаете пьесу в книге. И тут я подхожу к очень важному моменту. Существует давнее заблуждение, согласно которому одни пьесы предназначены для зрителей, а другие — для читателей. В самом деле, пьесы бывают двух разновидностей: «глагольные» и «прилагательные», незамысловатые сюжетные пьесы и цветистые описательно-образные — однако, даже оставляя в стороне то обстоятельство, что такая поверхностная классификация выдумана попросту для удобства, хорошая пьеса любой разновидности доставляет нам одинаковое наслаждение и в театре, и дома. Единственная оговорка состоит в том, что пьеса, в которой поэзия, символика, описания, длинные монологи тормозят драматическое действие, в крайней своей форме становится уже и не пьесой, а пространной поэмой или торжественной речью, так что вопрос о том, что лучше — читать ее или смотреть, уже и не возникает, поскольку она просто-напросто не пьеса. Тем не менее в определенном смысле пьеса «прилагательная» выглядит на сцене ничуть не хуже, чем пьеса «глагольная», хотя самые лучшие пьесы обычно представляют собой сочетание и действия, и поэзии. Отложим пока дальнейшие объяснения и будем считать, что пьеса может быть какой угодно — статичной или ритмичной, экстравагантной или классической по форме, проворной или величавой, лишь бы это была хорошая пьеса.
Нам следует четко разграничить талант автора и тот вклад, который вносит театр. Я говорю только о первом, к последнему же обращаюсь лишь постольку, поскольку автор предопределяет его. Совершенно ясно, что дурная постановка или плохой состав исполнителей могут погубить и наилучшую из пьес и что театр способен обратить все, что угодно, в несколько часов мимолетного колдовства. Гениальный режиссер или актер могут придать сценическую форму бессмысленному стишку; декорации, созданные одаренным художником, способны обратить незатейливую шутку в великолепный спектакль. Но все это не имеет отношения к задаче драматурга — постановка способна лишь прояснить и воплотить его замысел или даже придать плохой пьесе видимость — но только видимость — хорошей, а вот в печатном виде пьеса предстает такой, какова она есть — не лучше и не хуже. В сущности, я не могу припомнить ни одной удачной драмы, которая не доставляла бы наслаждения как при ее просмотре, так и при чтении, хотя, разумеется, удовольствие, получаемое при свете рампы, в определенном смысле отличается от удовольствия, извлекаемого из пьесы при свете настольной лампы, — в первом присутствует чувственная составляющая (хорошее зрелище, прекрасная игра актеров), во втором ее замещает составляющая чисто образная (компенсирующая тот факт, что любое конкретное воплощение это всегда ограничение возможностей). Однако основная и наиболее важная часть наслаждения в обоих случаях остается одной и той же. Это наслаждение гармонией, художественной правдой, чарующими сюрпризами и глубокое удовольствие от самого состояния удивления, которое они вызывают, причем удивление это возникает каждый раз, сколько бы вы ни смотрели пьесу или перечитывали ее. Совершенное удовольствие там, где сцена не слишком отдает книгой, а книга сценой. Наверное, вы замечали, что сложные описания обстановки (множество подробностей и очень пространно) встречаются на страницах худших пьес (исключение составляет Шоу), и наоборот, что очень хорошие пьесы к этой стороне дела скорее безразличны. Такая нудная инвентаризация атрибутов, вкупе, как правило, с вводными описаниями персонажей и целой серией курсивных ремарок к каждой реплике пьесы, является, чаще всего, следствием не оставляющего автора чувства, что пьеса его говорит не все, что он намеревался сказать, — вот он и предпринимает жалкие многоречивые попытки спасти дело словесным декорированием. В более редких случаях такие излишества диктуются желанием упрямого автора увидеть пьесу на сцене в точности такой, какой он ее задумал, — но даже и в этом случае подобный прием в высшей степени раздражает.
Итак, теперь мы готовы, видя поднимающийся занавес или открывая книгу, рассмотреть структуру самой пьесы. Но при этом мы должны с полной ясностью понимать одно: с этого момента, приняв исходную условность — бесплотное всеведенье и невозможность физического воздействия с нашей стороны, физическое неведенье и значительное воздействие со стороны пьесы, — все остальные следует отбросить.
В заключение позвольте мне — теперь, когда я очертил общую мысль, — несколько иными словами повторить первичную аксиому драматургии. Если, а мне сдается, что так и есть, единственным допустимым дуализмом является непреодолимая преграда, отделяющая «я» от «не-я», то мы можем сказать, что театр дает нам хороший пример этой философской фатальности. Мой исходный принцип, относящийся к публике в зале и драме на сцене, может быть выражен так: первая осознает вторую, но не властна над ней, вторая ничего не знает о первой, но обладает властью ее волновать. В общем и целом, все это очень близко с тем, что происходит между мной и окружающим меня миром, и это не просто формула существования, но также и необходимая условность, без которой ни «я», ни мир существовать не могут.{110} Я рассмотрел некоторые следствия, происходящие из принципа театральной условности, и нашел, что ни сцена, переливающаяся через край в зрительный зал, ни публика, навязывающая свою волю сцене, не могут нарушить эту условность без того, чтобы не уничтожить основную идею драмы. И здесь мы вновь, уже на более высоком уровне, можем сопоставить эту концепцию с философией существования, сказав, что и в жизни любая попытка переиначить мир или любая попытка мира переиначить меня — чрезвычайно рискованное дело, даже если при этом обеими сторонами движут самые благие намерения. И наконец, я уже говорил об этом, чтение пьесы и просмотр спектакля соответствуют проживанию жизни и грезам о ней — и тот, и другой опыт позволяют получить одинаковое наслаждение, пусть и несколько различными способами.