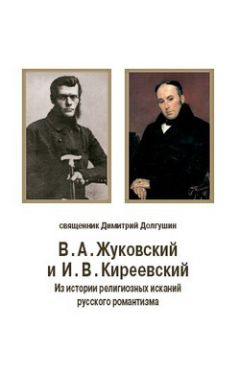Юрий Доманский - "Тексты смерти" русского рока
Между тем гораздо более частотными оказываются семы «текста смерти», соотносимые с имиджем Виктора Цоя. Возможно, именно «портретные характеристики» стали основой «текста смерти» Цоя. Вот лишь некоторые примеры: Цой «навсегда остался в моей памяти: в длинном черном пальто, в желтом свитере <…> черных штанах и желтом шарфике»[175] (Нина Барановская); «Остались от дружбы с ним цвета — черный и желтый. Черный — понятно, избранный стиль; желтый — не от корейской крови, от солнца <…> Остались ощущения: незыблемость, вечность. Это уже прерогатива Востока»[176] (Александр Липницкий). Еще при жизни музыканта черный цвет стал его визитной карточкой: «Самым загадочным персонажем в тусовке был Цой (как стало ясно впоследствии, это не кличка) — молчаливый, отчужденный, исполненный чувства собственного достоинства, одетый в черное <…> он ничем не запятнал своего строго черного “прикида”»[177] (Артем Троицкий); «Все черное — сумки, куртки, футболки, туфли сапоги <…> Он не был рабом вещей, но в одежде был рабом черного цвета»[178] (Юрий Белишкин). Заметим, что желтый (несмотря на то, что «у Вити было совершенно фантастическое пристрастие к желтому цвету <…> Цой очень любил желтые свитера, шарфики, цветы, все что угодно»[179] (Нина Барановская), и что киноманы на могилу певца «приносят цветы, причем стараются купить желтые (любимый цвет В. Цоя)»[180]), не получил такой знаковой нагрузки в «тексте смерти» Цоя, как черный. Не стоит повторять, какую символическую нагрузку несет черный цвет и, соответственно, какую функцию сыграл этот цвет в «тексте смерти» Цоя. Достаточно отметить, что «киноманы одеваются в черное (как В. Цой)»,[181] что у Цоя «есть поклонники, которые “тащатся” на внешнем — черной куртке, восточном разрезе глаз, стройной фигуре, горделивой осанке»[182] (Александр Житинский). Интересно, что у Цоя в советской культуре был непосредственный объект для подражания именно в плане имиджа. Андрей Панов вспоминал о Цое: «Особенно он любил Боярского <…> было заметно очень. Он ходил в театры, знал весь его репертуар, все его песни. Ему очень нравилась его прическа, его черный бонлон, его стиль. Цой говорил: “Это мой цвет, это мой стиль”. И действительно, знал и исполнял репертуар Боярского очень неплохо».[183] Исходя из этого можно говорить и о возможном моделировании Цоем не только внешнего облика «под Боярского», но и заимствовании модели поведения, связанной с героикой ряда ролей Боярского в кино и театре.
Важной семой имиджа Цоя становится и его восточная внешность («Его сила в духе, а не в кулаках. Может быть, здесь с наибольшей силой выразились его восточные корни»[184] (Александр Житинский)), которая наряду с черным цветом формирует совершенно особый тип мифологического героя. Интересно, что совсем недавно «восточная внешность» Цоя была иронически обыграна Б. Гребенщиковым в «японской» песне «Пока несут саке» с альбома «Ψ»: «Но как только я засыпаю в восточных покоях, мне снится Басё с плакатом: “Хочу быть, как Цой”».[185] Но это лишь частный случай. Смерть же героя непременно обрастает целым комплексом, в первую очередь, мистических моментов. И «текст смерти» Цоя, пожалуй, как никакой другой, наполнен мистической семантикой.
Мистика является одной из важнейших сем цоевского «текста смерти» в современной фольклорной традиции. Так, среди многочисленных устных рассказов о Цое «киноманы отдают предпочтение “мистическим” текстам, причем одна из групп посвящена факту смерти В. Цоя».[186] Примером такого текста может служить рассказ одной из девушек, пересказавшей свой разговор с Цоем на «подсознательном» (!) уровне: «Понимаешь, в тот момент, когда я заметил автобус, мне показалось, что меня уже как бы нет <…> В следующие секунды реальность вернулась ко мне — автобус был еще на достаточно безопасном расстоянии. А еще через две-три секунды я вошел в то же самое состояние. Понимаешь, ну как в кино. Забавно — кино было черно-белым. В тот миг мне было все равно, по какой полосе ехать, как и куда — я прекрасно осознавал, что сейчас кадр сменится… И он действительно сменился. Но как-то грубо, как будто ножницами вырезали. И все — время остановилось. Мое время истекло».[187] Этот рассказ в плане мистического наполнения интересен и как факт возможности общения киноманки с кумиром, и с содержательной точки зрения — как пример мистифицированного культурой факта гибели Цоя. Активно киноманами эксплуатируется традиционная мистическая символика смерти в граффити и оформлении своего облика.[188]
Мистический аспект присутствует и в воспоминаниях о Цое близких к нему людей. Так, режиссер Рашид Нугманов вспоминает сон, приснившийся ему утром 15 августа 1990 года — в день гибели певца. Цой во сне Нугманова произнес фразу: «Оказалось, что я подписал контракт и уже не могу отказаться. Я не хочу сниматься в этом фильме, но я вынужден».[189] Нугманов комментирует: «для меня теперь ясно, что это был за контракт. Иногда в голову приходят банальные мысли, что если б все сразу правильно понять, позвонить ему, может, что-то удалось бы изменить».[190] Юрий Белишкин вспоминает: «Я уговорил Виктора выпустить клишированные афиши для ленинградских концертов в “Юбилейном” и СКК. Все понимали, что нужны они не для рекламы, а для истории. Но он меня удивил и озадачил, попросив, чтобы вся афиша была черной, как я тогда говорил, траурной».[191] Б. Гребенщиков рассуждает о духе, «который с Витькой работал, — он меня всегда потрясал. Это было что-то типа лермонтовского Демона или Манфреда, только гораздо интереснее и приятнее. Огромного масштаба существо, полное неприятия бессмысленности жизни».[192] Близкую точку зрения высказывает А. Ягольник, для которого Цой «простой смертный человек, возможно, как личность не понятый до конца (или вообще не понятый?) нами, теми, для кого был наверное, ниспослан свыше: Богом ли, дьяволом ли?».[193] Как бы в продолжение этой мысли многие акцентируют внимание на том, что уход Цоя произошел по воле свыше: «Я считаю, что у него был еще очень большой творческий запас. Поэтому мне кажется, что это самая печальная и трагическая ошибка кого-то там, кто над нами»[194] (Нина Барановская); «и единственное, во что мне остается верить, — это что на то была Божья воля, что такова его судьба»[195] (Джоанна Стингрей). Похожие мнения бытуют и среди поклонников певца: «Почему Господь так несправедлив? Он забирает первыми лучших и самых любимых <…> Единственное, о чем я сейчас молюсь, — чтобы Господь любил Витю так же, как любим его мы, чтобы он берег его душу, раз уж мы не уберегли его тело»[196] (Юля Л., г. Красноярск).
Александр Житинский попытался обобщить подобного рода высказывания: «Феномен короткой и яркой жизни всегда притягивает внимание публики, таит в себе загадку, наводит на размышления, главное в которых — вечный вопрос о предопределенности судьбы, о закономерности трагического исхода для избранного Богом типа личности, именуемой чаще всего Поэтом. Избранник Божий — старое словосочетание, несущее счастье таланта и бремя рока одновременно. Бог избирает человека, чтобы сказать его устами нечто важное, и он же до срока, а точнее, в предопределенный им срок забирает избранника к себе».[197] Нетрудно заметить, что данная точка зрения применительно к Цою почти тождественна точке зрения Кадикова, правда без кадиковской псевдоконкретики. Однако приходится признать, что «слишком много вокруг Цоя происходит такого, что не поддается более или менее внятному объяснению»[198] (Алексей Учитель). И именно на мистическом уровне «текста смерти» Цоя несколько неожиданно возникает имя Башлачева: «У меня есть подружка, ей пятнадцать лет <…> и вот прошлой зимой она в компании таких же подростков гадала на блюдце <…> Она спросила, естественно, о Цое — сколько он проживет? Ответ — двадцать восемь лет! — Какой смертью умрет? — Выбросится из окна. Она мне это рассказывала зимой, мы тогда еще ухмылялись: ну-ну, посмотрим, скоро ему двадцать восемь, а шагать в окно после Башлачева — как-то не того… <…> А теперь я не могу отделаться от мысли, что Виктор просто нашел свой выход, и для него пустой “Икарус” на дороге — то же, что окно для Башлачева»[199] (Н.Б., Симферополь).
Как видим, в контексте башлачевского «текста смерти» (сема окно) «текст смерти» Цоя потенциально несет в себе почти весь комплекс сем, присущих башлачевскому биографическому мифу. Однако эти потенции оказались востребованными лишь в очень малой степени, на что мы еще обратим внимание. Более того, А. Бурлака попытался демифилогизировать собственно мистический аспект «текста смерти» В. Цоя: «как вся жизнь Цоя оказалась мифологизирована, его смерть породила волну всевозможной мистики (часто основанной на прочитанной, да плохо понятой “Розе Мира”) и шаманства, а также лавины “знамений”, “откровений” и прочего по поводу и без повода».[200] Но очевидно, что мистика — одна из важнейших доминант цоевского «текста смерти», вызванная, как нам кажется, внешним видом, имиджем певца, а не его песнями, как может показаться на первый взгляд. Хотя в песнях, как это уже было в «тексте смерти» Башлачева, многие пытаются отыскать предвидение собственной гибели: «вы послушайте его песни. Такое впечатление, как будто он знал обо всем»[201] (Р.М. Цой); «А когда Виктор погиб — я сел и заново прослушал все его песни. И был потрясен, что почти все они о смерти, о ее предчувствии <…> Мне кажется он предвидел свою судьбу и готовил себя к ней. Я вообще не могу отделаться от ощущения, что есть в Цое нечто шаманское, потустороннее»[202] (Алексей Учитель). В этом — сходство с «текстом смерти» Башлачева, да и вообще со многими другими текстами подобного рода. Но к песням Цоя как важным источникам его «текста смерти» мы обратимся ниже, пока же сконцентрируем внимание на еще некоторых семах этого текста.