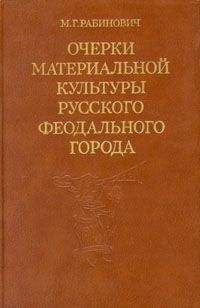Юлия Грибер - Цветовое поле города в истории европейской культуры
Миросозерцание эпохи, отразившееся в создании «островов» божественного сделало городское пространство Средневековья более упрощенным, мрачным и аскетичным по сравнению с Античностью, поскольку средневековое понимание цвета в городском пространстве замкнуло его внутри сакральных мест.
Внешние фасады рассматривались как оболочка, которая закрывала участвовавших в таинстве верующих. Стены ассоциировались со спасением, так как защищали внутреннее пространство от греха. А само цветовое пространство воспроизводило принципы мифологической модели острова, представляя собой «иной», священный мир.
Такое наполненное цветовыми островами, построенными по принципам обратной перспективы, пространство города оказалось очень сильным по своему воздействию. Оно было сложным, насыщенным и энергетичным. Здесь, внутри, народ мог укрыться от суетности, от «удушающих адских страхов» и «дикой жестокости»[113] реального злого и несправедливого мира, отречься от всех мирских проблем и «узреть незримое», погрузиться в «сияние счастья», в светлое наслаждение блаженством единения с Богом, кристаллизованное в прозрачной чистоте божественного света, где «трепетная вера этого времени постоянно жаждала непосредственно пребывать в красочных, сверкающих образах», а чудо осознавалось как таковое, поскольку происходило прямо перед глазами[114]. Здесь, внутри, погруженный в цвет, человек освобождался от хозяйственных забот и «обретал новый Рай, где, как и в изначальном, он мог вести беседы с нисходящим сюда Богом и, более того, где – в отличие от прежнего Рая – пребывал отныне Богочеловек»[115].
Чтобы выразить то, что может дать только Бог, приходилось отказаться от всяческой образности. Церковь гибко и умело пользовалась цветом как средством выражения мистического переживания, которому невозможно дать точное описание. Яркие, наполненные цветом образные представления легко находили себе место в обширной, всеохватывающей системе символического мышления, в которой благородный и величественный образ мира представлялся единым «сбором идей, богатейшим ритмическим и полифонным выражением всего, что можно помыслить»[116]. Свет внутри маркировал другой мир, понятный для верующих и открытый для тех, кто обладает особым, духовным, зрением. Для верующих свет сопровождал божественное, реальность которого при всей его непостижимости и недоступности была неизмеримо более важной и убедительной, чем быстротечная собственная земная жизнь. Реальность вездесущая, ощущаемая за каждым событием, незримый свидетель и судья, от чьего взора невозможно укрыться никогда и нигде.
Такое распределение цвета в городском пространстве располагало к «индивидуальному (пусть и мистическому) постижению Бога через воспарение духа»[117], утверждало, что спасения достигают, соблюдая порядок и дисциплину, под контролем власти, или, точнее, двух сотрудничающих властей – епископа и государя[118]. Оно поддерживало пассивный процесс против угнетения и предлагало выход из этого состояния, который открывался для верующих в потустороннем мире, поскольку там, в этом другом мире, перед богом все были равны.
В реальной социальной структуре городского общества этого времени «дело вовсе не ограничивалось обычной триадой: духовенство, аристократия и третье сословие. (…) В общем, всякая группировка, всякое занятие, всякая профессия рассматривались как сословие, и наряду с разделением общества на три сословия вполне может встретиться и подразделение на двенадцать!», – отмечает Й. Хейзинга. Каждое сословие понималось как «состояние, estat, ordo [порядок]», и за этими терминами стояла мысль о богоустановленной действительности. «Понятия estat и ordre в Средние века охватывали множество категорий, на наш взгляд весьма разнородных: сословия (в нашем понимании); профессии; состояние в браке, наряду с сохранением девства; пребывание в состоянии греха (estat de pechie); четыре придворных estats de corps et de bouche [звания телес и уст); хлебодар, кравчий, стольник, кухмейстер; лиц, посвятивших себя служению Церкви (священник, диакон, служки и пр.); монашеские и рыцарские ордена. В средневековом мышлении такое понятие, как «сословие» (состояние) или «орден» (порядок), во всех этих случаях удерживается благодаря сознанию, что каждая из этих групп являет собой божественное установление, некий орден мироздания, столь же существенный и столь же иерархически почитаемый, как небесные Престолы и Власти»[119].
Продолжая следовать схеме закрытого общества, социальная структура рассматривалась как физически, объективно предопределенная и естественная, а потому, как и в Античности, в создании цветовых пространственных образов Средневековья активно участвовала природа, которая в Средние века выступала в искусстве как действующее начало, сочувствующее человеку, символизирующее что-то в его жизни и в отношении к нему Бога (особенно заметно это проявилось в литературе и фольклоре)[120]. «Для Средних веков природа – это прежде всего организованный Богом мир, мир, который несомненно выше человека, «учит» человека, подает человеку добрый пример праведной жизни», – пишет Д.С. Лихачев. «Противопоставление природы как беспорядка человеку как представителю порядка и культуры – типичное противопоставление Нового времени. <…> Мир природы – это мир святости, уход из «человеческого мира» – это прежде всего уход от греха в богоустановленный порядок не испорченной грехом природы»[121].
Дикая природа считалась безгреховной, поскольку была устроена самим богом, без вмешательства человека. Именно такое ощущение должны были создавать и особенности средневековых храмов. Архитектурные постройки мыслились внутри природы, о чем свидетельствуют изображения зданий в окружении деревьев на иконах и картинах XV–XVII веков. На существование такой связи указывают также детали градостроительного законодательства, которое из Византии было воспринято в другие европейские страны и предусматривало разрывы между зданиями, запрещая загораживать постройками вид на окружающую природу[122].
Силуэты романских построек повторяли и обобщали естественный рельеф, а их колористика гармонировала с природным окружением, стараясь использовать привычный язык для создания чувства неотделимости от природы. В отличие от более ранних базилик, построенных из кирпича, романские возводились из небольших, грубо отесанных камней (хотя в некоторых районах Франции и Германии кирпич тоже употреблялся), и этот местный камень, чаще всего служивший строительным материалом, органично сочетался с оттенками земли и зелени.
Все вокруг должно было создавать атмосферу того, что место это является естественным творением, но при этом творением природы (но не человека), которая рассматривалась как символ высшего, незримого мира. Даже цветная мозаика под ногами использовалась для того, чтобы «можно было бы подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами». «Как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их художником»[123].
Значимость цветовых символов в социальном пространстве поддерживалась их расположением в пространстве физическом. В основе средневекового образного мышления лежала вертикальная модель мира[124], в которой выше означало значительнее, сильнее. Силуэт города определяли здания находящихся в то время у власти институтов (церкви, ратуши). Элита жила непосредственно в центре, в то время как дома непривилегированных горожан располагались на окраинах или даже за городскими стенами. Дворцы и соборы возносились «высоко над городом, устремляясь ввысь над этим островком продуктивного изобилия, следя за всем, что производится и продается в этом людском гнездовище, которое, стоит лишь выйти из стен храма, представляет собой лабиринт узких улочек с бесчисленными сточными канавами и скотными сараями»[125]. Возвышение замков более богатых владельцев, занимающих господствующее по отношению к прочим положение, над множеством аристократических замков и поместий стало играть важную социальную роль, показывая взаимозависимость между людьми[126]. Такую же функцию выполняли и шпили готических соборов, устремленные все выше и выше не из-за того, что горожане стали больше верить в Бога, а в силу возрастания конкуренции между городами[127].