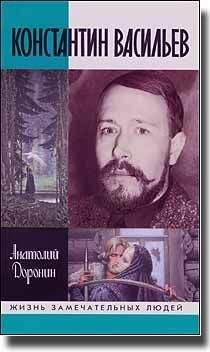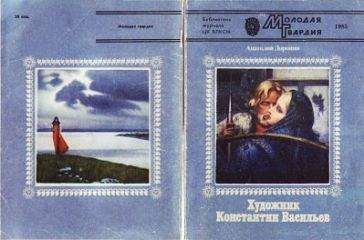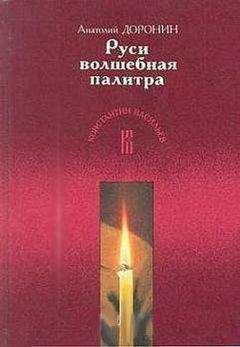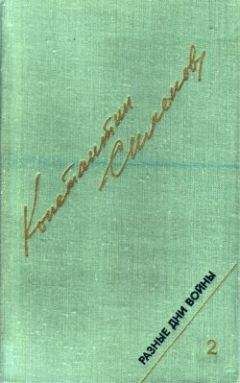Олег Буткевич - Красота
В. И. Ленин писал, что «чувства дают нам верные изображения вещей, что мы знаем самые эти, вещи, что внешний мир воздействует на наши органы чувств» 40. Но в то же время «чувственное представление не есть существующая вне нас действительность, а только образ этой действительности» 4I.
Так, наше ощущение холода, хотя и дает нам правильные сведения об изменении температуры во вне, но дает их в образно-человеческо-субъективной форме. Оно ни в коем случае не тождественно физическому явлению, вызывающему это ощущение. Например, перейдя из теплой комнаты в прихожую, мы ощутим холод. Но войдя в ту же прихожую с мороза — почувствуем тепло. Субъективно мы ощутим объективную перемену температуры. Но в обоих случаях наше субъективное чувство не будет тождественно этой температуре, так как ощущение холода или тепла — это человеческое переживание, а не сама объективная реальность. Ощущение запаха не тождественно тем частицам вещества, которые попадают на слизистую оболочку носа, хотя и фиксирует именно это попадание. Ощущение боли от укола булавкой, хотя оно зависит и от формы булавки и от того, насколько глубоко погрузилась она в тело, тем не менее не тождественно этой булавке.
В своей знаменитой работе «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин приводит мысли Фейербаха на этот счет: «[...] Мой вкусовой нерв такое же произведение природы, как соль, но из этого не следует, чтобы вкус соли непосредственно, как таковой, был объективным свойством ее, — чтобы тем, чем является (ist) соль лишь в качестве предмета ощущения, она была также сама по себе (ап und fur sich), — чтобы ощущение соли на языке было свойством соли, как мы ее мыслим без ощущения (des ohne Empfindung gedachten Salzes) [...]» 42 «Ощущение красного цвета, — напоминал Ленин, — отражает колебания эфира, происходящие приблизительно с быстротой 450 триллионов в секунду. Ощущение голубого цвета отражает колебания эфира быстротой около 620 триллионов в секунду» 43.
Непосредственный образ даже таких «первичных» качеств, как форма или размер, вовсе не обязательно идентичен действительной, объективно существующей форме (или размеру) предметов, хотя он и дает нам субъективное отражение именно действительной формы (или размера) предметов. Глядя, например, на квадратный стол, мы воспринимаем его зрительно в большей или меньшей перспективе, делающей его стороны неравными, а прямые углы превращающей то в острые, то в тупые. Уходящие вдаль рельсы мы воспринимаем сходящимися в одной точке. Если же мы видим предмет не в перспективе и фронтально освещенным, то вообще не чувствуем непосредственно его протяженности, воспринимая, например, куб как плоскость, шар как круг и т. д.
Глубоко ошибочным было бы пытаться характеризовать собственную объективную природу явлений, вызывающих наши ощущения, той субъективной психофизической реакцией, которую они вызывают: например, наколовшись на булавку и ощутив боль от укола, утверждать, будто бы булавка и есть объективно существующая боль. Такое вынесение во вне субъективного ощущения было, видимо, характерно для далекого прошлого человечества, когда наивные представления отождествляли ощущение с внешними их причинами, когда гром был ужасом, еда — сытостью и т. д. С развитием практики и абстрактного мышления человек, противопоставляя себя окружающему, познавая его и практически преобразуя, научился отделять непосредственную, чувственную познанность от объективной природы самих явлений.
Правда, субъективно-идеалистическая философия со времен епископа Беркли и по сей день (печальной памяти махизм и более поздние теории, например, взгляды новейших неопозитивистов) продолжает в различных вариантах отождествлять ощущения и объективные свойства внешних вещей. В упомянутом выше труде В. И. Ленин по существу боролся именно с махистским отождествлением ощущения с объективными качествами явлений действительности. «„Чувственное представление и есть вне нас существующая действительность"!! Это как раз и есть та основная нелепость, основная путаница и фальшь махизма, из которой вылезла вся остальная галиматья этой философии и за которую лобзают Маха с Авенариусом отъявленные реакционеры и проповедники поповщины, имманенты. Как ни вертелся В. Базаров, как он ни хитрил, как ни дипломатничал, обходя щекотливые пункты, а все же в конце концов проговорился и выдал всю свою махистскую натуру! Сказать: „чувственное представление и есть существующая вне нас действительность“ — значит вернуться к юмизму или даже берклианству [...]»44
Не является ли и непременное стремление найти объективно существующую красоту вне нас если не нечаянной данью берклианству, то, но крайней мере, несколько запоздалым, рудиментарным отголоском той наивной эпохи, когда палка была для человека объективно существующей болью? Не выносим ли мы, сами себе не отдавая в том отчета, наше субъективное, чисто человеческое ощущение (чувство красоты) как реакцию на внешний мир, во вне; и не пытаемся ли найти там качество «объективной красоты», столь же не существующее вне сознания, как и качество «объективной боли»? Ведь все субъективные и объективные данные (точнее, полное отсутствие последних) говорят совершенно ясно одно: красота, поскольку на протяжении своей истории человечество ее наблюдало и исследовало, — это наше субъективное чувство, возникающее при столкновении с теми или иными явлениями и процессами.
В этой связи непременные поиски объективной красоты вовсе не представляются подсказанными реальной жизненной практикой. Скорее, они обусловлены чисто умозрительными построениями типа приведенного выше: «...Если не признавать объективности, то...» и т. д. с грозным восклицательным знаком на конце.
Между тем уже один тот факт, что красота возникает как наше непосредственное ощущение, при котором мы взволнованно воспринимаем данный предмет (процесс, явление) красивым, а рациональное, логическое исследование, фиксируя все качества этого предмета (процесса, явления), с поразительным упорством из века в век никакой «объективной» красоты зафиксировать не может, прямо толкает на мысль, что красота — это своеобразная, требующая исследования непосредственная познанность объективного содержания действительности, но не само это познаваемое содержание. Что она всегда остается только и исключительно отражением реальности, содержанием сознания, причем содержанием не просто субъективным, но и глубоко эмоциональным.
В мировой эстетике подобная мысль в принципе отнюдь не оригинальна. Вспомним хотя бы Спинозу, утверждавшего, что красота «есть не столько качество того объекта, который нами рассматривается, сколько эффект, имеющий место в том, кто рассматривает. Если бы глаза наши, — пишет он, — видели дальше или ближе или если бы наша [психофизическая] конституция (temperamentum) была иная, то, что теперь кажется красивым, показалось бы безобразным. Красивейшая рука, рассматриваемая в микроскоп, показалась бы ужасной» 45. Нужно подчеркнуть, что и Чернышевский, провозглашая прекрасным жизнь, никогда не утверждал, будто вне сознания присутствует некое специальное «объективно-эстетическое» содержание помимо всей объективной жизни, представляющейся нам прекрасной в той мере, насколько она соответствует нашим понятиям о жизни. Хотя, как отмечалось, он прямо и не ставил проблему в гносеологической плоскости, тем не менее пафос его определения и анализа прекрасного заключается вовсе не в том, что прекрасное само в себе и само для себя находится вне сознания, но в том, что прекрасное для нас есть прежде всего жизнь, а не искусство. Концепция Чернышевского, если ее не насиловать в духе искательства непознаваемой наукой «объективной красоты», вообще не мыслит прекрасного без оценивающего его человека. Это обстоятельство, кстати, как раз и послужило поводом для субъективистской трактовки общественно-исторического содержания эстетики Чернышевского. Однако бороться с подобными искажениями идей Чернышевского посредством новых их искажений — нелепость.
В то же время понимание красоты как своеобразной эстетической познанности уже на данном начальном этапе нашего анализа сближает красоту с научной познанностью, с истиной. Тем самым, с одной стороны, подтверждается глубочайшее стихийное убеждение людей в родственности этих философских категорий, убеждение, нашедшее теоретические обоснования в трудах многих философов-материалистов, в том числе Белинского и Чернышевского, а с другой — открывается заманчивая перспектива материалистического преодоления и использования богатства и глубины гегелевской диалектики прекрасного (так же, как марксистская гносеология в делом преодолела гегелевское учение об истине).