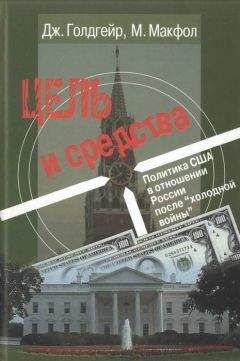Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
В этой «чудной стране» идеальные цели, а не материальные причины определяли жизнь и историю. Вселенная была произведением искусства, и человек, высшее творение Вселенной, был один лишь способен понять ее потаенную гармонию и исполнить ее высокое назначение.
На практике философия Шеллинга имела в России двоякий эффект. С одной стороны, многие дворяне вновь открыли для себя посредством философии то, что перестали находить в религии: уверенность в существовании идеала, всобъемлющего назначения жизни и истории. В этом смысле шеллинговская философия играла роль обнадеживающую и утешительную; она способствовала социальному и политическому консерватизму. Поэтому неудивительно, что такой реакционный писатель, как Погодин, пытался опираться на Шеллинга, конструируя идеологию «официальной народности; или что кончивший столь завзятым радикалом Белинский в конце 1830-х гг. под воздействием Шеллинга (а позднее — Гегеля) вдруг примирялся с действительностью и писал славословия царизму.
В то же время философия Шеллинга стала отправной точкой российской революционной мысли. Под влиянием Шеллинга крупнейший биолог николаевской России Карл фон Бэр разрабатывал идеалистическую теорию целенаправленной эволюции, которая впоследствии повлияла на таких радикальных мыслителей, как Кропоткин и Михайловский. Однако более важным было пьянящее воздействие идей Шеллинга на многочисленных мыслителей, кое-как знакомых с ними из третьих рук. Разочарованность тонула в философии, сулившей всеобщее космическое искупление, ничуть не предрешая, каким именно образом оно произойдет. Шеллинг побуждал думать, будто глубокие перемены могут воспоследовать в самом процессе становления, который и является сущностью жизни. Возникало и крепло убеждение, что затеянные прежним поколением поиски таинственных «ключей» ко Вселенной были вовсе не бессмысленными, а всего лишь преждевременными и неумелыми. Продолжался поиск всеобъемлющих решений; и Шеллинг являет собой переходную фигуру от простодушного оккультизма Бёме и Эккартсгаузена к идеологическим системным конструкциям Гегеля, Сен-Симона и Маркса.
Смысл историиИз всех «проклятых вопросов» наиболее широко обсуждался в царствование Николая вопрос о смысле истории. После Наполеоновских войн в российском обществе как никогда было сильно стремление осознать свое место в истории. Идеологи контрпросвещения настаивали на том, что прихотливые и традиционные сочетания исторических событий имеют собственное, особое значение; и россияне не менее твердо, чем другие европейские романтические мыслители, вознамерились выяснить, что это за сочетания. Их богословие имело историческую направленность, и их бегство в философию естественно приводило их к философии истории.
Становление в романтическую эпоху широкого, философского интереса к истории было в немалой степени заслугой прибалтийских немцев, которых вдохновляло соприкосновение со славянским миром. Рижские размышления Гердера способствовали кристаллизации идеи о том, что истина заложена в истории, а не витает за ее пределами и что каждой культуре суждено возрастать и расцветать по-своему в саду человечества. Многие годы преподавания и научных занятий в Упсале и Санкт-Петербурге помогли Шлецеру обдумать свой оригинальный план «всеобщей истории». Он первым использовал древнерусские рукописи для целей исторического исследования, оспаривая подход «Норманнской школы» к российской истории и поднимал дух своих многочисленных русских студентов в Геттингене, внушая им, что России предстоят невиданные свершения на следующем историческом этапе. Во время германофильского царствования Николая I прибалтийские немцы-писатели сделали едва ли не больше всех, чтобы наделить явления народной жизни России романтической аурой «высшей истины»: Гакстгаузен в своих писаниях о крестьянской общине и Гильфердинг, совершив своего рода «открытие» былин российского Севера[974].
Между там интерес россиян к истории быстро возрастал. В 1804 г. было основано Общество истории и российских древностей под председательством ректора Московского университета. Разгром Наполеона и восстановление Москвы вызвало широкий всенародный интерес к истории, и Николай I содействовал ему, поощряя деятельность целого сонма патриотических профессоров и историков: Устрялова, Погодина и других[975]. От пушкинского «Бориса Годунова» (1825) до оперы Глинки «Жизнь за царя»(1836) русской сценой владели исторические драмы и оперы. Даже в отстающей культурной области живописи делались малоуспешные попытки создания монументальных патриотических полотен, главнейшим из которых является «Падение Пскова» Брюллова; сюда же относится невыполненный им заказ конца тридцатых годов на фрески со ценами из российской истории, которые должны были украсить стены Зимнего дворца[976]. Исторические романы задавали тон на литературной сцене: заштатные подражатели Вальтера Скотта появлялись даже в глухой провинции. М. Загоскин положил начало длинной серии шовинистических романов на тему «Русские против поляков» своим «Юрием Милославским» в 1829 г., а его воспоследовавшие патриотические сочинения в прозаическом и драматическом роде были последним криком литературной моды 1830-х гг. Один ученый насчитал 150 длинных поэм на исторические темы в духе Байрона и Пушкина, написанных в России между 1834-м и 1848 г.[977]».
Особую напряженность интересу к истории придавало шеллингианство с его утверждением, что мир пребывает в состоянии вечного «становления» и что превратности национальных судеб являются частью осуществляющегося божественного плана. Как писал один «любомудр», Шеллинг доставлял ему «утешение» и препятствовал «одурению от окружающей среды», «вознося меня в эмпиреи священной отчизны»[978]. Многие россияне искали личной встречи с Шеллингом, и он заверял их, что «России суждена великая участь; доныне она еще не осознала свое могущество во всей полноте»[979].
Человеком, который сосредоточил весь этот интерес к историй на проблеме судьбы России, был Петр Чаадаев. Чаадаев отправился сражаться с Наполеоном, будучи впечатлительным восемнадцатилетним юношей, и был впоследствии подвержен почти всем тревожным духовным воздействиям второй половины царствования Александра. Он был знаком с де Местром, состоял в масонской ложе системы высоких степеней и являлся светочем умственной жизни офицерства мятежного Семеновского полка. В качестве особо приближенного адъютанта он был послан в 1820 г. с известием о полковых беспорядках к царю, который в то время совещался в Лайбахе с другими вождями Священного союза. Вскоре после этого он вышел в отставку и начал поездкой в Швейцарию долгий период своих романтических скитаний и философских медитаций; он познакомился с Шеллингом и был за границей, когда разразилось восстание декабристов.
Возвратившись в 1826 г. к коронации Николая I, он взялся за сочинение своих восьми «философических писем» об историческом развитии России; в основном они были закончены к 1831 г. В начале 1830-х гг. они широко обсуждались, но опубликовано было лишь первое из них — в 1836 г. Оно грянуло, «как пистолетный выстрел в ночи»[980], и навлекло гнев российских властей на автора и его издателя Надеждина, но при этом послужило началом неофициальных дебатов о судьбах России, которые впоследствии стали известны как спор славянофилов и западников.
Письмо Чаадаева является своего рода вехой, указателем пути радикального западничества, на который вскоре стали призывать Россию. Оно написано по-французски, слогом журнальной полемики, Москва называется в нем «Некрополем» (городом мертвецов); Чаадаев утверждает, что до сей поры Россия была скорее географическим понятием, нежели историческим явлением, что она целиком зависела от идей и установлений, навязанных ей извне.
Чаадаевский полный отказ от российского исторического наследия свидетельствует отчасти о влиянии де Местра — очевидном также в его склонности к категорическим суждениям и симпатии к римскому католицизму. Однако если взять глубже, то очернение Чаадаевым прошлого и настоящего России лишь создает фон для яркого видения ее будущего. Он подчеркивает, что отсутствие России на исторической сцене может, если на то пошло, оказаться преимуществом для ее дальнейшего развития. По сути дела, Чаадаев философически формулировал то, что Лейбниц говорил Петру Великому, энциклопедисты — Екатерине Великой, а пиетисты — Александру Благословенному: что Россия, по счастью, оставалась в стороне от европейского сумасбродства и поэтому сохранила способность выступить спасительницей европейской цивилизации. Но в отличие от этих своих предшественников Чаадаев был русским, обращавшимся к соотечественникам у себя на родине. Более того, в то время как царь претендовал на высший авторитет в государстве, он обращался вовсе не к царю. Блюстителям «официальной народности» наверняка было слегка подозрительно его презрение к культурному бесплодию и избыточному смирению православия, не говоря уж о его прямом утверждении, что «политическое христианство… в наши времена более не имеет смысла» и должно «уступить чисто духовному христианству, которое и просветит мир»[981].