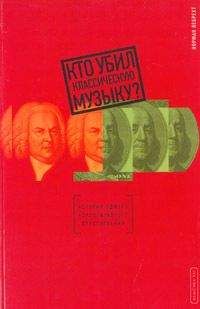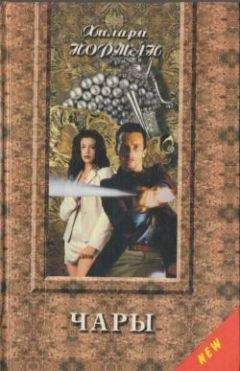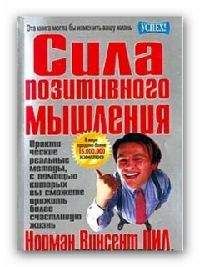Норман Лебрехт - Маэстро миф
Что касается собственно достижений, Рэттл к своим 35 отметился первым исполнением нескольких обреченных на долгую жизнь произведений, в том числе анархическим «Франкенштайн!!» Нали Грубера, долго ждавшей своего часа Первой симфонии Максуэлла Дэвиса и различными вещами Бриттена, извлеченными из архивов Альдебурга. Еще большее впечатление производит его способность вытаскивать шедевры из трясины неосмысленных предубеждений. «На мой взгляд, Саймон принес Десятой Малера славу, он раз и навсегда доказал, что это замечательная музыка» — сказал Брендель о сделанной Рэттлом еще в молодости записи реконструкции Дерика Кука. Леонора Гершвин, наследница композитора, отдала Рэттлу должное за «первое успешное исполнение „Порги“», — она присутствовала при глайндбёрнском триумфе этой оперы, когда состоятельная публика без стеснения обливалась слезами, наблюдая за разыгравшейся в Кэтфиш-Роу любовной трагедией. «Лишь немногие американцы поняли это, — писал один из певцов, — но в глайндбёрнское лето [1986-го] „Порги и Бесс“, наконец, достигла совершеннолетия». «Разговоры о том, что это не настоящая опера, прекратились» — подтвердил исполнивший заглавную партию Уилфорд Уайт. В оркестровом отношении, сказал Рэттл, «„Порги“ труднее „Воццека“, этой опере присуща мощь, равную которую можно встретить лишь в очень немногих произведениях искусства».
Вот это соединение убежденности с уверенностью в себе и обратило Рэттла в поразительного дирижера. Агенты и менеджеры, в отношениях с которыми он сохраняет неподступную независимость, не смогли замутить чистоту его словно бы полного неведения взгляда на мир. Он не прислушивается к принятым мнениям, пока не сформирует собственного, и принимает советы лишь от узкого круга близких людей, в который входит его жена, композитор Оливер Нассен, Брендель, Флейшман и его бирмингемский партнер Эд Смит, широко известный умением поддерживать и оркестр, и дирижера в состоянии полной готовности к работе.
Рэттл признает, что на подиуме на него оказали формирующее влияние два человека — «мои старики», любовно называет их он, — причем каждый тянул его в свою сторону. Бертольд Гольдшмидт, использовавший в своей фортепьянной сонате тональные кластеры еще до того, как их открыл Барток, увлек своего молодого друга малеровской миссией погружения в будущее. Рудольф Шварц, бывший некогда второй скрипкой венского Филармонического и переживший бельзенский концлагерь, уходит корнями в традицию более консервативную; это он научил Рэттла тому, что в музыку, которую ты исполняешь, необходимо прежде всего привносить собственное настроение (по совпадению, Шварц начал свою британскую карьеру в Борнмуте и Бирмингеме, словно бы предрекая путь будущего его протеже). Рэттл постоянно навещает обоих мэтров, помнит дни их рождения, звоня им, где бы он не находился, — это он вернул Гольдшмидта в Берлин триумфатором, исполнив его «Ciaconna Sinfonica». Дружеские отношения поддерживает Рэттл и с Джоном Карью, дирижером, наставлений которого он искал в ранней молодости и к которому продолжает питать уважение. «Многие уверяют, что это они наставили Саймона на правильный путь, — сказал Карью, — однако он всегда выбирал свой путь самостоятельно. Это феномен, простой ливерпульский мальчишка, пошедший в правильную сторону просто потому, что все нужные для этого гены у него были на месте».
Маленького Саймона воспитывали мать и сестра, Сюзен, которая была старше его на девять лет и страдала легкой формой мышечной недостаточности, — отец проводил много времени в деловых разъездах по Дальнему Востоку. Сестра работала в библиотеке и приносила домой записи и партитуры. «Вкусы у нее были на редкость всеобъемлющие, — рассказывал ее брат, — она набирала Шёнберга, Бартока, Хиндемита, кого угодно, и приносила, а я слушал».
«Он мог сидеть в постели с огромной оркестровой партитурой и переворачивать ее страницы, читая, как другие дети читают комиксы, — вспоминает его отец, Деннис. — А иногда он звал меня, мать или сестру и говорил: „Смотрите, смотрите, что они делают с флейтой, ха-ха, смешно, правда?“». Мальчик старательно переписывал партии ударных и по воскресеньям исполнял их в гостиной под аккомпанемент лившейся из проигрывателя симфонической музыки. Впоследствии он играл на литаврах в Мерсисайдском молодежном оркестре и освоил фортепиано в мере достаточной для исполнения концерта Моцарта.
Услышанная на концерте Вторая симфония Малера внушила ему желание стать дирижером. В пятнадцать лет Рэттл попал в газетные заголовки страны, выступив с собственным оркестром из семидесяти двух человек на благотворительном вечере, посвященном сбору средств для Ливерпульского общества паралитиков. «Мы-то думали, что он сыграет небольшой концерт да и все» — сказал ошарашенный муниципальный чиновник. Рэттл же исполнил «Неоконченную симфонию» Шуберта, «Фантазию на тему Таллиса» Воан-Уильямса, Кларнетный концерт Моцарта и «Английские танцы» Малколма Арнолда. В зале присутствовал Чарлз Гроувз, главный дирижер Ливерпульского королевского филармонического, который и взял юношу в оркестр. После победы на национальном дирижерском конкурсе и участия в Променад-концертах (он оказался самым молодым из когда-либо выступавших там дирижеров), Рэттл стал в свои 22 ассистентом дирижера в Ливерпуле, а спустя два года мог бы и унаследовать подиум, если бы не сомнения оркестрантов, знавших его еще в коротких штанишках, и не собственное его решение оставить город, слишком близкое знание которого порождает неизбежные сантименты. Работавший одновременно с ним в оркестре Эд Смит получил место менеджера в Бирмингеме и, надавив на правление оркестра, добился назначения Рэттла главным дирижером.
Получив работу, Рэттл первым делом женился, а затем взял годовой отпуск, чтобы поучиться в Оксфорде, на отделении литературы, дирижируя только во время студенческих каникул. В отличие от многих маэстро, он понимал, что за пределами музыки простирается очень непростая жизнь, и проявлял свою общественную сознательность, давая благотворительные концерты и выступая в поддержку множества достойных начинаний — от помощи голодающим в засушливой Африке до поддержки исследований, посвященных борьбе со СПИДом. Он был одним из тех, кто стоял во главе кампании протестов творческих личностей против тэтчеровских покушений на гражданские свободы и права гомосексуалистов. Коротко говоря, в башне из слоновой кости он не затворился.
Проведя в Бирмингеме семь лет, Рэттл взял второй годовой отпуск и уехал на сей раз на остров Бали — сидел там с женой и сыном у ног наставника гамелана, играл вместе с ними в деревенском оркестре. «У этих людей не существует такого понятия, как профессиональный музыкант, — с наслаждением обнаружил Рэттл. — Любое искусство это часть их жизни — настолько, что у них даже слова „искусство“ и „культура“ отсутствуют, — искусство просто воспринимается как данность: им занимается каждый». Он постановил для себя, что не станет «отцом в отлучке», и неизменно ускользал с репетиций, чтобы провести время с сыном, Сашей, в семь лет вышедшим на сцену «Ковент-Гардена» в отцовской «Лисичке». Когда Джеймс Ливайн попросил Рэттла продирижировать в «Мет» еще одной оперой Яначека, тот отклонил предложение, сказав: «Я не хочу надолго покидать Англию, у меня здесь молодая семья и молодой оркестр, и я должен о них заботиться».
«Какой смысл зарабатывать больше в Лондоне, — говорил он своим музыкантам, — если никогда не видишься с семьей, ради которой ты, предположительно, и зарабатываешь? Жизнь не может состоять из одного только исполнения музыки — утром, днем и вечером». Сила, потребная для того, чтобы сказать «нет», и уверенность в себе, позволяющая не сожалеть о последствиях отказа, произросли в Рэттле из приоритетов, внушенных ему еще в отрочестве. «Его душевное здравие коренится в сестре и родителях, — подтверждает Карью. — Они и сейчас оказывают на его жизнь очень сильное влияние».
Куда может привести его эта самая жизнь, показывают быстро развивающиеся отношения Рэттла с Берлинским филармоническим. После того, как он в течение нескольких лет пугал оркестр требованием исполнить Десятую Малера после четырех репетиций, — на таких условиях оркестр соглашался работать лишь с Караяном, — Рэттл в ноябре 1987-го показал с ними (после трех репетиций) малеровскую Шестую, то было исполнение, которое не оставило камня на камне от искусственных концепций Караяна. Овации продолжались так долго, что оркестр успел покинуть сцену, предоставив Рэттлу выходить на поклоны в одиночку. Вернувшись два года спустя, чтобы дать концерт из произведений Бартока, Рэттл отменил его запись, когда узнал, что оркестранты одновременно записываются с Баренбоймом. «В желании записываться с теми же музыкантами, с которыми репетируешь, нет ничего сверхъестественного» — гневался он. Менеджеры оркестра взъярились, но молодым оркестрантам манера Рэттла понравилась до того, что ему отвели в графике работы Филармонического шесть ежегодных концертов. В результате он оказался в избранном обществе Хайтинка, Ливайна, Клайбера, Меты и Баренбойма, став первым в своем поколении членом элиты. Один из немецких журналов тут же окрестил его «Караяном 2000 года». Начинало казаться, что Рэттл и вправду непогрешим. В тех редких случаях, когда он терпел неудачу с оркестром, а это случилось с «Консертгебау» и Кливлендским, вина возлагалась на огрехи оркестрантов. Если же странновато составленная программа оставляла половину зала пустым, порицаниям подвергался отдел маркетинга. Но неужели Рэттл и вправду был настолько хорош?