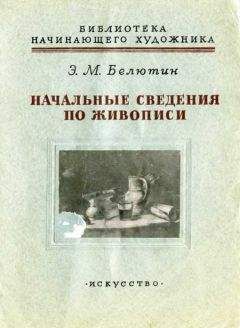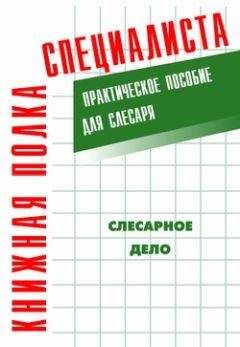Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба
ВБ: Потому что почти ни разу не посчастливилось найти переводчика, работа которого меня бы удовлетворила.
ЗГ: Одним из ваших переводчиков был тезка Михаила Горбачева.
ВБ: Да, Михаил Васильевич Горбачев, белорус, наш земляк. Он очень славный человек, но переводил мои работы довольно слабо. После него меня переводили несколько отличных русских писателей, но тоже малоудовлетворительно.
ЗГ: И после этого вы пришли к решению переводить самому?
ВБ: Я начал задумываться об этом начиная с 1965 года. Твардовскому не понравилось, как Горбачев перевел «Мертвым не больно». Когда я пришел к ним со своей новой работой «Проклятая высота» (1968), в «Новом мире» было совещание, на котором Твардовский и его редколлегия настояли на том, чтобы я начал переводить свои работы сам.
ЗГ: Значит, волей редколлегии из писателя можно сделать и переводчика?
ВБ: Это было решение не от хорошей жизни. Один из редакторов предложил Дудинцева[469] в качестве переводчика. Между прочим, Дудинцев, отличный русский писатель, тоже был не в фаворе у властей в то время. Твардовский немедленно отреагировал: «Какую замечательную опальную троицу вы предлагаете: Быков — писатель, Дудинцев — переводчик, Твардовский — редактор. Я уверен, что члены Центрального Комитета партии невероятно обрадуются этой чудесной комбинации! И каким это образом, вы думаете, нам удастся эту работу опубликовать? Да никто никогда в жизни нам не позволит этого! Пусть Василь сам поработает над переводом. Мы поможем». Так я и поехал домой и вскоре вернулся с переводом. Надо сказать, что моя первая попытка оказалась довольно слабой. Редколлегия отредактировала мою работу и опубликовала ее под названием «Атака с ходу». С той поры мне некого винить в неудачах перевода, кроме себя самого.
ЗГ: А следующим что было?
ВБ: «Круглянский мост» (1969. — ЗГ).
ЗГ: Работа шла чуть полегче?
ВБ: Нет, нисколько, я переделывал перевод семь раз, и до сих пор он меня не удовлетворяет.
ЗГ: Думаю, вы непомерно строги к себе. Ваши последние переводы на русский — совершенно замечательные. Конечно, те, кому повезло, как мне, читают ваши работы в оригинале. И еще, Василь Владимирович, вы, видимо, тяжело переживаете тот факт, что на европейские языки ваши вещи переводят в основном с русского?
ВБ: Да, мне с этим нелегко смириться, особенно обидно за ранние вещи. Насколько мне известно, за почти пятьдесят лет моей писательской деятельности, только два переводчика, один из Германии, другой из Болгарии, переводили мои работы с белорусского оригинала. Все остальные, большей частью, переводятся с русского перевода…
* * *
ЗГ: Знаю, что вы пишете сейчас новую вещь. Как она называется?
ВБ: «Болото».
ЗГ: Как я понимаю, это название — социально-политическая метафора трясины, топи, застоя и грязи…
ВБ: Я выбрал это название в надежде передать самые разные значения этого слова. Это повесть о случае, произошедшем во время войны с немцами. О белорусском партизанском движении. Главная тема, как и в большинстве моих работ, — тема нравственности, она лежит в основе сюжета. Быть может, я повторяю себя…
ЗГ: Подозреваю, что это, как часто у вас, не повторение, а углубление темы. Ведь каждый писатель непрестанно ищет истину, и чаще всего этот поиск ведется в однажды выбранном им направлении. Но у меня другого плана вопрос. Каково ваше отношение к литературоведению, к критике? Изменилось ли оно за прошедшие годы?
ВБ: Изменилось. На протяжении лет существовало два типа литературной критики. Первый тип, исходящий от советского руководства, меня никогда не волновал. Хоть такая критика и попортила мне крови, я никогда не принимал ее особенно близко к сердцу. Но зато и на первых порах, и после мне очень помогла и положительная и, более того, отрицательная критика со стороны профессионалов. В те дни было немало замечательных литературоведов и критиков, к мнению которых писателю стоило прислушаться. Я прислушивался. Такие люди, как Твардовский и редакторы его журнала, были очень требовательны и строги. Их школа принесла мне огромную пользу. Я также безмерно ценил мнение моего друга и прекрасного критика Алеся Адамовича. Как правило, он был моим первым читателем. Его влияние на меня трудно переоценить. Ну и, конечно, Ирина Михайловна до сих пор остается самым главным критиком моих произведений. Сначала она была чересчур снисходительна ко мне. Помню, она хотела даже послать один из моих первых рассказов Шолохову. До сих пор радуюсь, что не согласился.
ЗГ: Первая критика из уст профессионального писателя — это едва ли не самые важные слова в жизни каждого автора. Была ли первая оценка вашей работы положительной?
ВБ: Нет. Находясь в армии, я послал три моих рассказа Михасю Лынькову[470]. Он любезно согласился их прочитать и написал мне свой отзыв. Когда я прочитал эту самую первую в моей жизни рецензию, желание писать у меня отпало надолго. Конечно же первые отклики критиков очень важны, но если они негативны — а обычно это так и происходит, — то они могут отпугнуть потенциально талантливого писателя.
ЗГ: Но вас, слава богу, отзыв Лынькова не остановил. Видимо, ваши темы, так сказать, кипели в вас и требовали выхода.
ВБ: Наверное, так. Пожалуйста, поймите меня правильно, я не в обиде на тот ушат ледяной воды, который писатель вылил на мое нежное в ту пору самосознание. Лыньков был и остается одним из моих самых любимых белорусских писателей. Ну а с недавних пор я как-то стал более равнодушен к мнению литературоведов: быть может, это у меня возрастное, или качество литературной критики изменилось, трудно сказать…
ЗГ: Вы сейчас работаете еще над рассказом, не правда ли? У него есть название?
ВБ: Да, он называется «Плен».
ЗГ: Это большой рассказ?
ВБ: Думаю, что, когда закончу, в нем будет чуть более тридцати страниц.
ЗГ: Иными словами, рассказ и новелла все еще ваши любимые жанры, не так ли?
ВБ: Твардовский часто повторял, что его не очень интересуют современные романы. Он почти никогда не печатал романы в «Новом мире». Ему больше нравились малые жанры — рассказы, новеллы, повести. Уж не знаю почему, но у меня всегда было похожее отношение к литературным жанрам. Вероятно, потому, что малые формы удавались мне лучше. Однако в последние годы ситуация радикально изменилась: стало практически невозможно опубликовать произведения малых жанров именно из-за их малого размера. Издательства требуют романов, потому что это им, видимо, подходит с коммерческой стороны.
ЗГ: Василь Владимирович, литература всегда играла особую роль как в России, так и в Беларуси, и не в последнюю очередь из-за своей, что ли, нравственной миссии. Сейчас, когда в результате демократических перемен политическая ситуация на просторах бывшего СССР изменилась, поменялась ли одновременно с ней и эта традиция литературы?
ВБ: Во-первых, я не считаю, что Россия, а тем более Беларусь выбрали демократию как способ политического и социального развития для своих стран. Демократия, так сказать, не укрепилась в этих странах. Почему не приживается демократия в Беларуси, России? Потому что, как когда-то часто повторял академик Лихачев[471], демократия может прижиться только в тех странах, где история вскапывала для нее почву и проращивала семена.
Я с ним полностью согласен: при отсутствии почвы для демократии — а в истории ни России, ни Беларуси ее почти не было — просто невозможно прийти к демократии знакомым нам западным путем. По отношению к литературе я повторю слова одного русского мыслителя: «Наследие советских лидеров — это не литературная тема».
ЗГ: А кто это сказал?
ВБ: Это любимая фраза Бориса Парамонова[472].
* * *
ЗГ: Можно спросить, что вы думаете о писателях-эмигрантах? Кто из них близок вам по духу, если можно так выразиться?
ВБ: Я высоко ценю гражданское мужество, политическую позицию и, конечно, литературные произведения Георгия Владимова[473] и Владимира Войновича. Они оба принадлежат к поколению, которое моложе моего, я уважаю их принципы и умение постоять за них. Я ценю литературу эмиграции всех поколений. Сейчас лучше, чем когда-либо, я понимаю, через что прошли эти писатели и почему они были вынуждены покинуть родину. Особенно близок мне покойный Виктор Некрасов, Вика, как все мы его называли. Тоже, кстати, любитель «малого жанра»…