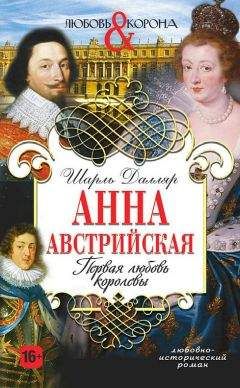Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Из лучших лучший!» На это Натан отвечает с теплой и доброй иронией: «Благо нам! Что в ваших – // Христианином делает меня, // В моих глазах вас делает евреем». Так Лессинг вновь дает понять, что высокие нравственные принципы, способность творить добро – не есть сугубо христианская прерогатива, что дело не в том, кем слыть – христианином ли, евреем ли, но в том, чтобы быть человеком, а этого требуют и та и другая религии.
Натан и Реха призваны ко двору, чтобы султан вынес свой вердикт о праве Натана на отцовство и о его участи. Реха узнала, что она – приемыш, более того – она крещена как христианка. Ей нужно сделать выбор. Однако Натан уже воспитал ее в духе своей высокой веры в человека, и она знает: именно иудаизм в отличие от христианства и ислама признает достойными Царства Божьего, достойными Спасения всех, кто веровал в Единого Бога, независимо от конфессии, кто творил добро, соблюдал Заповеди сынов Ноевых (семь цивилизационных заповедей, завещанных, согласно Книге Бытия, через сыновей Ноя всему человечеству). Она твердо знает, что нет надобности претендовать на истину в последней инстанции только в своей вере, что к Богу ведут разные пути. Вот почему она с горечью и недоумением говорит о поступке Дайн:
Она, ведь я сказала, христианка,
А им любовь повелевает мучить.
Бедняжка мнит, что ведом только ей
Путь к вечной жизни и пути другого
Нет к Вездесущему.
Реха предстает как истинная дочь Натана и хочет остаться ею, даже узнав, что она – не родная ему по крови. Но не важнее ли кровного родства – родство духовное?
…Молю лишь об одном?
Меня – отцу, а мне отца оставить.
Не знаю, кто другой имеет право
Мне быть отцом, и не хотела б знать!
Но разве только к кровному родству
Отцовство сводится?
Саладин соглашается с доводами Рехи:
…Но чтобы быть отцом,
Родства по крови мало – и для зверя,
Пожалуй, мало. Ибо кровь дает
Лишь преимущество добиться званья
Отцовского.
Султан признает, что Натан является подлинным отцом Рехи, что он совершил благой поступок – спас ее, и не просто спас, но дал ей истинную любовь – единственное, что делает человека человеком. В устах Саладина звучит мысль, чрезвычайно дорогая и для Натана, заветная мысль самого Лессинга: важнее всего – человек, а уж христианин ли он, мусульманин ли, иудей – дело вторичное. И тогда Натан при Саладине раскрывает тайну рождения Рехи и тамплиера. Оказывается, они родные брат и сестра, что и понял раньше всех Натан, потому и воспротивился их браку. Они – дети любимого брата Саладина Ассада, который в молодости отправился в Европу, там онемечился, принял христианство, затем оказался в Палестине, а когда отправился в свой последний поход, доверил свою малютку-дочь, потерявшую мать, только Натану.
Итак, в финале выясняется кровное и – главное – духовное родство всех главных действующих лиц пьесы. Все они обнимаются со слезами радости и любви на глазах, и эти объятия, по замыслу Лессинга, – символ грядущего единения рода человеческого, грядущего «возраста мудрости», о котором он говорил в «Воспитании рода человеческого».
Необычный финал пьесы еще раз подчеркивает, что перед нами – своеобразная утопия, опрокинутая в прошлое, но устремленная в будущее. И сердцем этой утопии является Натан, высшее воплощение человечности. Ничто не способно пошатнуть веру Натана в человека. Эта вера выше всех религиозных и национальных предрассудков. В человеке Натан видит прежде всего человека, несколько раз повторяя свою заветную мысль, несомненно, являющуюся одним из идейных стержней драмы: «Уж ты поверь мне, Дайя: человеку // Всех ангелов дороже человек»; «…Ах, когда бы // Мне удалось найти в Вас человека. // Хоть одного найти еще, который // Довольствовался б тем, что человеком // Зовется он!»; «…еврей и христианин // Не люди ли сперва, а уж потом // Еврей и христианин?» Духовный антипод Натана – Патриарх Иерусалимский, низводящий христианство к человеконенавистнической доктрине. В этом образе сконцентрирована страстная ненависть Лессинга к зашоренности и фанатизму, к духовной слепоте, к мертвящей догме, в нем живет еще не остывший жар сражений с пастором Гёце.
Лессинг не надеялся на постановку «Натана Мудрого» в тогдашней Германии. «Я не знаю такого места в Германии, где эту пьесу сегодня могли бы поставить», – писал он в одном из набросков предисловия. Таким образом, он создавал свою драму скорее как драматическую поэму для глубокого, вдумчивого чтения (отсюда – огромная значимость монологов, идейные споры, часто перерастающие в небольшие трактаты, малая внешняя сценичность). Два года спустя после кончины
Лессинга «Натан Мудрый» пережил премьеру в Берлине, однако успеха пьеса не имела: слишком мало она завлекала внешним действием, слишком смелыми и не всегда понятными обывателю были мысли, слишком крупной должна была быть личность актера, взявшегося за роль Натана. Так продолжалось до 1801 г., когда в Веймарском придворном театре «Натан Мудрый» был поставлен в сценической редакции Шиллера и наконец-то получил признание публики. «Пьеса ставится еще и поныне, – писал Гёте в 1815 г., – и продержится долго, ибо всегда найдутся толковые актеры, которые будут чувствовать, что роль Натана им по плечу. И пусть знакомое повествование, удачно поставленное на подмостках, напоминает вечно немецкой публике, что ее дело не только смотреть, но также и слушать и внимать. И пусть выраженное в пьесе божественное чувство терпимости и милосердия пребудет для нации дорогим и священным».
Гёте как нельзя лучше выразил великий предостерегающий и поучительный смысл, заключенный в пьесе Лессинга. Так оба великих немца пытались предостеречь свою родину, словно предчувствуя, что случится с Германией в XX в. Знаменательно, что в 1945 г., после крушения нацизма, «Натан Мудрый» стал первой пьесой, сыгранной на подмостках Немецкого театра имени Макса Рейнгарда в Берлине.
3. Драматургия Позднего Просвещения (1770–1810)
Драматургия Лессинга и теоретическое осмысление им законов драматического искусства подготовили блистательный взлет драмы на позднем этапе немецкого Просвещения, появление целой плеяды талантливых драматургов, ярчайшим из которых был и остается Фридрих Шиллер. Драма явилась органичным родом литературы как для выражения штюрмерских идей, так и идей «веймарского классицизма». Она дала яркие плоды и в раннем, и в зрелом творчестве Гёте и Шиллера.
Штюрмерская драматургия
Штюрмерское десятилетие (70-е гг. XVIII в.) стало временем бурного развития драматургии в Германии. Драма в различных своих жанровых разновидностях, но прежде всего «мещанская» трагедия, «мещанская» драма, оказалась одним из важнейших средств для выражения штюрмерских идей – страстной защиты «естественного» человека и «естественного» состояния, борьбы с сословными предрассудками, прокламации культа сильной личности, «бурного», «оригинального» гения. Не случайно и само штюрмерское движение – движение «Бури и натиска» – получило свое название по пьесе одного из самых видных штюрмеров – М. Клингера. Это название как нельзя лучше отражало свойственные штюрмерству вообще и штюрмерской драматургии в частности бунтарство, неистовость чувств, неукротимость стремлений. Чувствительность, переходящая порой в экзальтацию, высокая патетика, перетекающая в нарочито сниженную и порой вульгарную речь низов, в нарочитую грубость, – такой стилевой сплав весьма характерен для штюрмерской драматургии. Чаще всего штюрмеры, даже в трагедии, предпочитали прозу, которая в их глазах служила выражением наибольшего приближения к жизни, к ее суровой, трагической, а порой убогой прозе. Кроме того, прозаическая форма предпочиталась в связи со страстной полемикой с классицистическими нормами.
Штюрмеры отрицали всякие нормы и правила, их кумиром был Шекспир, которого они ценили за историзм мышления, глубинное постижение жизни, неистовость страстей, соединение трагического и комического, естественного и сверхъестественного. Они стремились так же, как и Шекспир, создавать на сцене незримое присутствие огромной массы людей, самой истории. Следуя свободной форме его трагедий и комедий, штюрмеры еще в большей степени усилили эту свободу, тяготея к фрагментарности формы, к созданию произведений, состоящих из отдельных, практически самостоятельных, сцен. Подобная штюрмерская «фрагментарность» сохранится даже в окончательной редакции «Фауста» Гёте, создававшейся тогда, когда Гёте расстался со штюрмерством. Великолепными образцами штюрмерской драматургии стали трагедии Гёте «Гёц фон Берлихинген с железной рукой» и первоначальный «Фауст», уничтоженный автором, но открытый позднее учеными и названный «Прафаустом»[244].
Одним из наиболее ярких представителей штюрмерской драматургии был Фридрих Максимилиан Клингер (Friedrich Maximilian Klinger, 1752–1831), известный также как прозаик-романист[245], но дебютировавший и прославившийся прежде всего как драматург. Судьба Клингера неисповедимо переплелась с судьбой России, его творчество вобрало в себя многие русские темы и впечатления. Сам же жизненный путь этого «бурного» гения весьма типичен для писателей-штюр-меров, вышедших из низов общества.