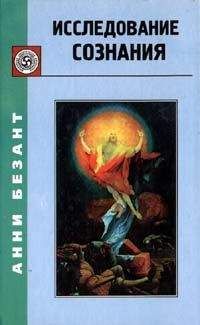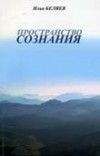Эрих Соловьёв - Прошлое толкует нас
«Поставить вне закона» — значит отказаться от охраны человеческой личности, позволить обращаться с человеком как со зверем или вещью. Именно на фоне этой формулы делается видимым, осязаемо ощутимым, что всякий, в том числе и уголовный, закон является закономзащищающим. Наказание по суду, даже весьма суровое, это благо в сравнении с расправой и линчем.
Разъясняя смысловое строение уголовно-правовой нормы, немецкий философ И. Г. Фихте предлагал читателю вообразить такую судебную процедуру. Уличенный правонарушитель сперва просто «оставляется как бы по ту сторону закона». Он, по выражению Фихте, делается vogel-frei (свободным, как птица), то есть получает возможность творить все, что ему в голову взбредет. Но зато и все другие свободны в отношении его: каждый может безнаказанно «употребить» преступника по своему желанию, то есть подвергнуть его надругательству, обратить в раба или просто убить. Не очевидно ли, говорит Фихте, что, оказавшись в подобном положении, преступник сам попросит для себя наказание, предусмотренное уголовным кодексом.
«Наказание есть право преступника» — эту формулу Гегеля высоко ценил Маркс. Наказание имеет свою меру в виновности преступника, а потому может рассматриваться как карательное воздаяние, примиряющее его с обществом и с самим собой. Наказание должно неотвратимо следовать за преступлением и вместе с тем быть независимым от любых привходящих соображений (прежде /419/ всего от соображений пользы, которую общество могло бы извлечь из эксплуатации или заклания осужденного правонарушителя).
Безусловное предварительное доверие к человеку, составляющее суть юридического гуманизма, имеет в виду не только его волю, но еще и рассудок, или здравый смысл. Правовая оценка поведения предполагает, что каждый член общества в состоянии сам судить, что является для него выгодным или невыгодным, полезным или пагубным. К признанию автономии нравственной добавляется тем самым признаниеутилитарной автономииили, как выражался А. Смит, «свободы самостоятельного преследования личного интереса».
Тема утилитарной автономии впервые возникает в английской философско-правовой литературе XVII века и резюмируется в следующей формуле: «Никто не может домогаться права (говоря точно, власти, привилегии. Э. С.) быть советчиком другого».[14] Человеку должна быть предоставлена возможность для действия на свой страх и риск, для проб и опытных выводов, для ошибок и перерешений, падений и возрождений. Общество как бы «дает фору» индивиду, не применяя к нему государственного принуждения до того момента, пока он не нарушает закона. Каждый гражданин волен послать подальше сколь угодно высокого самозваного наставника, сующего нос в такие его дела, которые не наносят ущерба другим согражданам.
Первооснова индивидуальных правомочий — этонеподопечность, или статус практической личной независимости (status libertatis). Государство запрещает себе вмешиваться в такие действия подданных, которые относятся только к их собственному сохранению и счастью и только им могут нанести ущерб. Диктовать индивиду, как ему следует быть благоразумным, запрещается и любым частным лицам. Если же подобное посягательство все-таки имеет место, индивид вправепривлечь государство себе на помощь(через прессу, апелляцию в суд и административные органы). Это уже область признанных «позитивных притязаний члена общества как юридического лица», или гражданский статус (status civitatis). Общество обязано удовлетворить жалобы гражданина по поводу стеснения его практической личной независимости и наказать виновных. Мера этого наказания должна определяться /420/ в законе, а чтобы это произошло, члену общества необходимо предоставить возможностьвоздействовать на самое власть и на законодательное творчество. Отсюда вытекает право избирать и быть избранным в законодательные органы, обсуждать и критиковать действия правительственной администрации, участвовать в референдумах и т. д. За индивидом тем самым признается состояние «квалифицированной активной гражданственности», или политический статус (status politicus). Благодаря ему делается действительным давнее политико-юридическое правило: «Каждый обязан подчиняться лишь такому закону, на который он сам дал согласие».
Демократия и правовые гарантии личного волеизъявления
Status libertatis и status civitatis в понимании Г. Еллинека выражают правовую защищенность индивида как лично независимого агента социальной и хозяйственной жизни. Status politicus имеет в виду прямое или косвенное участие индивида в законотворчестве, а значит, регулярное воздействие личности на общество через систему демократических институтов. Демократия в буквальном переводе с греческого означает народовластие; в античной литературе понятие это связывается прежде всего с идеей господства большинства. Что касается политического словаря нового времени, то здесь термин «демократия» непременно подразумевает еще инеискаженную представленность личности в большинстве. Никакой закон неправомерен, если он не может трактоваться как вытекающий из народного решения, однако и само это решение неправомерно, если не является интегралом (и притом правильно взятым интегралом) от множества независимых и ответственных личных волеизъявлений. Хорошо известно, что мнение коллектива — даже единодушное — не всегда выражает подлинную волю его членов. Оно может фиксировать и преходящее возбужденное состояние людей (когда каждый «вне себя»), и их согласное безразличие к принимаемому решению. Оно может оказаться вынужденным, закупленным, завербованным или, как недавно отчеканил один из известных наших публицистов, «агрессивно послушным». Этот факт, давно подмеченный исследователями конформизма, имеет существенное значение для всей проблематики демократического большинства. /421/ Уже некоторые философы поздней античности обращали внимание на то, что у народовластия есть два антипода. Первый (откровенный и легко уличимый) — это аристократия. Второй (порою трудноопознаваемый) — охлократия, то есть власть черни, толпы, деперсонализированной массы.
Противопоставление демократии и охлократии, обсуждавшееся западноевропейскими мыслителями на протяжении столетий, не получило должного освещения в нашей историко-политической литературе. Само понятие «охлос» трактовалось то как бранное выражение, придуманное аристократами для очернения демоса, то как узкий по своему значению социологический термин, которым с древности помечалась деклассированная, люмпенская масса. Хотя обе эти трактовки и небезосновательны, они не схватывают самого интересного и значимого мотива, содержавшегося в сочинениях древних и новых критиков охлократии. Ведь в первую очередь их тревожило то, что при известных условияхдемос перерождается в охлос. Это случается, например, тогда, когда народные собрания становятся объектом тиранического насилия, или попадают под влияние демагогов, или грозят опалой тем своим членам, которые по непредусмотрительности рискуют оказаться в меньшинстве. Свойства черни может обнаружить любая вотирующая группа, коль скоро она нивелирует входящих в нее индивидов и стесняет их самостоятельное волеизъявление.
Эта тема, еще только намеченная в поздней античности, получает концептуальную определенность в раннебуржуазной политико-правовой литературе. Особенно интересны в данном отношении мучительные раздумья Ж.-Ж. Руссо.
Руссо — неистовый ревнитель так называемой «прямой», или «плебисцитарной», демократии. Идею представительства он решительно отклоняет, полагая, что любое «перепоручение воли» (будь то индивидуальной, будь то коллективной) таит в себе опасность ее искажения. Серьезное политическое решение должно непосредственно вотироваться всем народом, как это начиная с XV века практиковалось в швейцарских кантонах.
Мнение большинства, достигнутое на плебисците, Руссо считает абсолютно непререкаемым. Каждый, оказавшийся в меньшинстве, должен не только принять его к исполнению, но еще и убедить себя в ложности ранее отстаивавшегося личного убеждения. Если ему, не, удается /422/ этот подвиг добровольного патриотического перевоспитания, он обязан покинуть страну.[15] Знаменательно, однако, что чем решительнее Руссо отстаивает тезис о совпадении общего решения с подлинным (хотя бы и неосознаваемым) устремлением всякой единичной воли, тем чаще гложет его сомнение по поводу соответствия этого решения воле народа как субстанциальному началу политической жизни. Всегда ли плебисцит адекватно выражает то, чего его участники желают на деле? Не случается ли, что выбор большинства закрепляет скорее бытующие предрассудки людей, чем их разум? Не возрастает ли опасность подобной подмены по мере того, как увеличивается масса, участвующая в плебисците? Плодом этих сомнений оказывается совершенно удивительный практико-политический вывод: Руссо объявляет демократию формой правления, непригодной для больших государств, в которых, увы, проживает основная часть человечества. Что пугает Руссо в плебисцитарной практике крупного государства, отличного от кантона или штата? Несомненно, феномен деперсонализации и анонимности. Но ведь он может возникать и в любом малом собрании. Парадоксы руссоистской концепции демократии наталкивали на вопрос о правовом обеспечении подлинности и действенности личного волеизъявления, без которых большинство народа не может репрезентировать народную волю в ее конкретности и целостности. Какими должны быть эти нормы, яснее всего обнаружилось в ходе анализа реальной практики народных референдумов, предпринятого рядом исследователей в середине XIX века. И знаменательно, что их «опытным полем» стала прежде всего Швейцария, то есть страна, демократическую традицию которой Руссо считал своего рода международным эталоном.[16] Присмотримся к результатам этого анализа, тем более /423/ интересным, что идея народных референдумов приобрела у нас сегодня небывалую популярность.