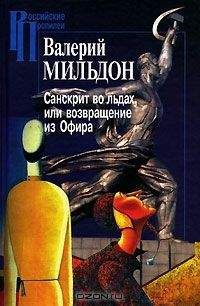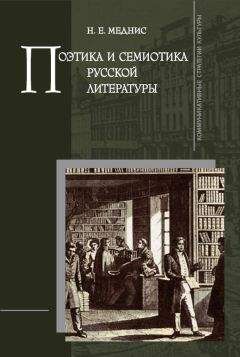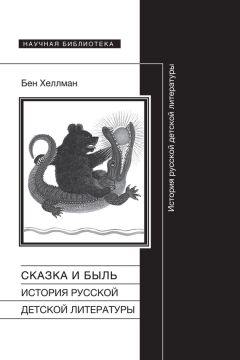Константин Богданов - Из истории клякс. Филологические наблюдения
Ритуальные типологии, обнаруживаемые при сопоставлении советского общества и традиционно архаических обществ, оказываются обоснованными здесь в том отношении, в каком они равно демонстрируют принудительность «телесной» социализации субъекта и вместе с тем непосредственность коммуникации, связывающей общество с реальными и воображаемыми инстанциями власти. Отмечавшаяся исследователями неординарно значимая роль, которая придавалась роли рукописного текста в идеологической культуре советского общества (например, значению собственноручной подписи обвиняемого в дознавательно-следственных бумагах) и, в опосредованном виде, — графико-орфографической аккуратности текста как такового (оправдывавшей в те же сталинские годы кажущиеся сегодня неадекватными наказания корректоров и редакторов за типографские опечатки), может быть понята как сопротивление самой возможности письма отчуждать — а значит и освобождать — носителей информации от прав и обязанностей, призванных осуществлять и поддерживать практики контактного коммуникативного контроля, демонстрирующего собою «телесное» единство общества и идеологии (см. лозунги и пропагандистские клише советского времени: «народ и партия едины», «весь советский народ единодушно поддерживает», «советский народ с чувством глубокого удовлетворения» и т. п.).
Характерно, что современные дискуссии об обоснованности возвращения уроков чистописания в программу начальной школы муссируют по преимуществу аргументы, апеллирующие не столько к образовательной прагматике (стандартам допустимой каллиграфии для зрительного понимания текста, когнитивным эффектам психомоторики ребенка и т. д.), сколько к соображениям общеэстетического, этического, историософского и, в конечном счете, идеологического порядка[104].
Spruzzarino, blotting, Kleksographien: искусство и наука чернильных пятен
Пример клякс может считаться если не парадигматическим, то, по меньшей мере, традиционным в истории внимания к роли случайности и предопределения. В ретроспективе культурной истории его предвосхищают уже древние практики гадания, имевшие дело с какими-либо жидкостными пятнами, и прежде всего — гадание по воску (керомантия, кероскопия, от греч. χηρός — воск). Косвенное свидетельство о таком гадании содержится уже в истории Иосифа, где упоминается о серебряной чаше, равно используемой для питья и гадания (Быт. 44:2, 5)[105]. О распространенности керомантии в греко-римской античности, как это иногда утверждается, приходится судить предположительно[106]. Но в средневековой Европе этот вид гадания (как и варьирующее его гадание по расплавленному олову, свинцу и т. д.), по-видимому, уже был действительно хорошо известен и нашел для себя вышеупомянутый научный термин: так, он упоминается в третьей книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле (1546)[107]. Как и любая возводимая к античности практика дивинации, гадание по воску осуждается церковью[108], но остается широко распространенным в фольклорно-этнографических традициях Европы еще в конце XIX — начале XX века. Русскоязычный читатель здесь, конечно, вспомнит о «Светлане» В. А. Жуковского («ярый воск топили»), а еще скорее — о святочном гадании в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина:
Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит[109].
Вариацией керомантии можно считать также популярное для Европы Нового времени гадание на кофейной гуще. В конце XVII века флорентиец Томазо Тампонелли (Thomaso/Thomas Tamponelli/Tompanelli) посвятил этому гаданию целый трактат с подробным описанием надлежащей процедуры приготовления кофе и классификацией образов, за которыми гадающий был волен прозревать свое будущее. При внимании к пятнам и разводам, образуемым кофейной гущей, перечень того, что в них можно увидеть, включает у Тампонелли круги (полные круги предвещают получение наследства; круги с четырьмя точками — разрешение от бремени; два круга — двойню), венки (благоволение знатных особ), ромбы (успех в любви), короны (с крестом — смерть близкого родственника; корона, составленная из треугольников и квадратов, — смерть родственницы), овальные фигуры (успех в делах), треугольники (выгодная должность), четырехугольники (неприятности в супружеской жизни), дома (приобретение дома), птиц (к удаче), рыб (приглашение на обед), змей (измена или коварство), четвероногих животных (огорчение и бедность; за исключением собаки, означающей преданность), колесо (неприятное приключение), сундук (получение письма), запряженную карету (насильственная смерть любимой особы или близкого родственника), фигуры женщин и мужчин (для загадывающего мужчины женщина с палкой означает быть обманутым кокеткой; женщина с цветком — истинную подругу; для женщины мужчина со шпагой — бесчестие и нищенство; женщина на лошади — глупую страсть и дурачество), цветы (роза — к здоровью), букеты, кусты (к препятствиям), деревья (плакучая ива — огорчение и печаль), цифры и буквы и т. д. Впоследствии книга Тампонелли, а также написанные по ее следам руководства многократно издавались на разных европейских языках и попали в ряд ходовых книг «народной литературы», что, как можно думать, также стимулировало интерес к самому принципу случайности и процедуре «всматривания» в неопределенные и причудливые пятна[110]. Наконец, в XIX веке была засвидетельствована и практика непосредственного гадания по чернильным кляксам, названная на ученый лад «энкромантией» (encromancie, от франц. encre — чернила), истоки которой тоже, впрочем, возводятся к глубокой древности[111].
Трудно судить, насколько все эти традиции способствовали теоретизации и, в частности, эстетизации самого приема разбрызгивания красящей жидкости как примера спонтанности и загадочной неопределенности, но стимула к интуиции и творческому воображению они, во всяком случае, не исключали.
2
К середине XVIII века теоретически-специализированный интерес к собственно чернильным кляксам выразился в западноевропейских концепциях музыкальной и живописной алеаторики. Первой (по времени) в этом ряду должна быть, вероятно, названа техника композиторского сочинительства, описанная в анонимно изданном памфлете Уильяма Хэйеса (William Hayes) «Искусство сочинения музыки методом совершенно новым, пригодным к наипосредственной способности» (1751). Инструкция по применению новоизобретенного метода, именуемого здесь Spruzzarino (от итал. spruzzare — разбрызгивать: название, призванное, по авторскому замечанию, заменить собою «вульгарное название Щетка»[112]), излагается шуточно и сатирически направлена против Барнаба Ганна (Barnabas Gunn, которому она здесь же и приписана), композитора и органиста, о котором мало что известно (умер в 1753 г.), кроме того, что Хэйес был его соперником и противником «итальянского направления» в современной ему музыке:
Возьмите аптечную банку. Налейте в нее чернила того цвета, какой Вы предпочитаете. Положите лист разлинованной бумаги на Ваш клавесин или стол. Затем окуните Spruzzarino в банку. Когда Вы его вынете, то стряхните излишек жидкости, затем возьмитесь за его волокнистую или волосяную часть указательным и большим пальцем левой руки, сожмите их вместе и поднесите его к линиям или тем местам, которые Вы намереваетесь обрызгать. Затем указательным пальцем правой руки слегка подергайте за его конец. После этого Вы увидите на бумаге множество пятен <…>. Когда это будет сделано, <…> возьмите карандаш и принимайтесь за нанесение на нее с самого верха нотных значков или ключей, отмечая такты и превращая пятна в четвертые и восьмые ноты и т. д., насколько Вам подсказывает Ваша фантазия; сначала дискантовые, потом басы, наблюдая за их пропорциональным количеством от предыдущих к последующим. Когда это будет сделано, приправьте его бемолями и диезами по своему вкусу[113].
На следующий год Ганн полемически ответил Хэйесу названием изданного им песенного сборника и его эмблематическим фронтисписом, юмористически подтверждавшим признание «новоизобретенного метода сочинительства посредством Spruzzarino»[114].
Термин Spruzzarino, как и полемику двух малоизвестных сегодня композиторов, можно было бы счесть курьезом в истории музыки, но обрисованная Хэйесом техника музыкальной композиции, опирающаяся на произвольность творческого воображения в большей степени, чем на преднамеренный план и рациональное задание, важна самим принципом — принципом соотношения надлежащей музыкальной гармонии и кажущейся хаотичности внешней действительности. Итальянообразное словечко, пущенное в обиход Хэйесом, останется на слуху еще долго: в контексте музыкальной критики конца XVIII века оно подразумевает, в частности, «беспринципную неразбериху», «случайные брызги», когда «бемоли встречаются с диезами», как «при давке в темноте»[115]. Однако теория и практика композиционной случайности и спонтанности занимала просвещенные умы эпохи вполне всерьез.