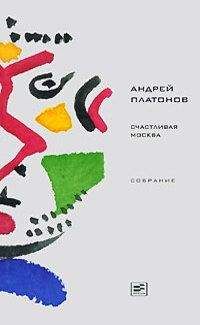Ольга Ладохина - Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века?
Не все художники шли в ногу со своим временем. Таков главный герой романа К. Вагинова «Труды и дни Свистонова». По характеристике автора, принадлежащего в обэриутской школе, «Свистонов был уже не в тех годах, когда стремятся решать мировые вопросы. Он хотел быть художником, и только» [5: 122]. Он не являлся приверженцем какой-либо философской школы, не религиозен, не состоял ни в какой партии. Впрочем, в осмотрительности и главному герою, и автору не откажешь: на страницах романа не увидишь никаких критических замеча-ниий, касающихся современной жизни. Писательское занятие для Свистонова – особый способ жизни. Как замечает А. Александров, «…это общее положение обэриутской эстетики. Оно утверждает, что искусство по отношению к действительности не “относительно независимо”, а абсолютно самостоятельно» [30: 19]. Такая своеобразная «остраненность», сконцентрированность на писательском творчестве позволили К. Вагинову сфокусировать внимание читателя на различных аспектах работы художника слова, описании этапов создания романа, приподнять завесу над некоторыми секретами писательского ремесла: «Свистонов творил не планомерно, не вдруг перед ним появлялся образ мира, не вдруг все становилось ясно» [5: 41]; «начнет перечислять предметы на все голоса и думает, что это стихи» [5: 52]; «где бы Свистонов не появлялся, всюду он видел своих героев» [5: 130].
К числу филологических романов относится и роман ученого-литературоведа В.В. Сиповского (псевдоним – В.В. Новодворский) «Путешествия Эраста Крутолобова в Москву и Санкт-Петербург в 30-х годах XIX столетия». В этом произведении автор ведет полемику с формалистами, спрятанную за литературной игрой.
Текст романа пронизан аллюзиями на русскую классику Например, герои произведения (Эраст, Ионыч, Тришка, генеральша Епанчова) названы именами персонажей известных произведений Н. Карамзина, А. Чехова, Д. Фонвизина, Ф. Достоевского. Жилет брусничного цвета роднит Эраста с Чичиковым, а его впечатления от впервые увиденного города сходны с впечатлениями главного героя романа И. Бунина «Жизнь Арсеньева»: «При въезде в город Эраст прежде всего был поражен видом двухэтажного каменного острога с железными решетками на слепых окнах» [17: 85]. Описание В. Новодворским герба дворян Крутолобовых во многом совпадает с характеристикой родословного древа в «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина: «А герб наш – вверху: три сосны и некто, в оных соснах заблудившийся – герб бывшего пошехонского княжества! – с гордостью пояснил хозяин» [17: 43]. По мнению А. Веселовой, «романы Сиповского, провокативные в филологическом отношении, несомненно являются достойными образцами русской беллетристики 1920-30-х годов XX века» [17: 36].
Опыты создания филологического романа нашли свое воплощение в ряде произведений В. Набокова, в творчестве которого его писательская деятельность также была тесно связана с его литературоведческими и культурологическими исследованиями. «“Дар” – это подношение Набокова всей русской литературе, в которой он видел чередование мучительных испытаний и взлетов» [39: 541]. «Дар» автобиографичен: Набоков-Сирин в первую очередь поэт, который пытался воплотить мотив поэтического дара в прозаической форме. (Такую же попытку в конце века сделал С. Гандлевский в романе «<НРЗБ>»).
Филологичность романа заложена и в его языке, который, во-первых, создает интертекстуальное поле, образующееся ссылками на чужие тексты, во-вторых, автоцитацию и, в-третьих, словесную игру (упоминание сборников стихов «Кипарисовый Ларец» дает возможность эрудированному читателю узнать его составителя – И. Анненского и «Тяжелая Лира» – В. Ходасевича). Особенностью цитирования у Набокова является пародия, совмещение двух текстов в одном: например, строки из стихотворения «19 октября» А. Пушкина и «О доблестях, о подвигах, о славе» А. Блока, соединившись, превращаются в единый текст В. Набокова: «О Шиллере, о подвигах, о славе» [39: 256]. Стилистический маркер романов Набокова – языковая игра: Набоков был писателем-билингвом, и «Дар» – это последний русскоязычный роман. Уже с первой главы можно обнаружить отсылки к таким авторам, как Ж. Санд, И. Гете, позже появятся аллюзии на французского поэта П. Ронсара, немецкого лирика Ф. Шиллера. Набоков приготовил словесные шарады и для двуязычного читателя: «Фургона уже не было <…> А как было имя перевозчичьей фирмы? Max Lux. Что это у тебя, сказочный огородник? Мак-с. А то? Лук-с, ваша светлость» [39:191]. Все это вместе у Набокова играет смысловую роль, дает ключи к тексту. Такое языковое «столкновение» и создает неповторимость языка произведений Набокова.
По мнению Ив. Толстого, «мир литературы оказывался у Набокова не только субъектом, но и объектом» [145: 7]. Сам автор в предисловии к первому изданию романа «Дар» отмечал, что главная героиня его книги – русская литература, а герой этого романа Федор Чердынцев – русский поэт в эмиграции, автор небольшого сборника стихов. Он поставил перед собой задачу написать биографию Чернышевского. Помимо возможности ознакомиться с творческой лабораторией писателя, читателю предоставляется возможность увидеть эмигрантскую жизнь глазами поэта, а главное, понять, как «любовь его молодого героя-писателя к русской литературе и служение ей сполна возмещают ему тяготы изгнанничества» [39:464]. В то время в моде был жанр литературной биографии (В. Ходасевич «Державин»), к которому у Набокова было критическое отношение, поэтому для романа «Дар» он пытался найти особую форму изложения. Говоря о росте литературного таланта главного героя, Набоков вглядывался в свое прошлое, анализируя свой путь от стихов к прозе, передоверяет своему герою привязанность к русскому языку, к литературе, причем он постарался, чтобы творчество Федора как можно меньше походило на его собственное.
Все исследователи отмечали интерес Набокова к игровому началу в искусстве, в «Даре» же это проявилось в виде пародий на известных в то время критиков (Адамович, Ходасевич), на творчество эмигрантов. Главной же пародией является собственно биография Чернышевского, разрушающая иллюзию о революционере-романтике. Чтобы понять это, требуются знания исторической эпохи и литературной ситуации того времени.
В «Дар» включены тексты классических произведений и собственно роман главного героя о Чернышевском. Эта «мета-романность», по определению В. Ерофеева, позволяет понять процесс создания произведения на самых ранних его этапах. Главной чертой «метаромана» является связь с собственными произведениями Набокова, ключевая тема, разрабатываемая им сразу в нескольким тестах. Роман «Дар» связан с произведениями писателя «Приглашение на казнь», «Уста к устам», «Отчаяние», «Круг» общей темой: «Отчаяние» поднимает проблему соотношения внутреннего мира творца и мира внешнего; в «Приглашении на казнь», созданном за две недели во время написания «Дара», раскрыт внутренний мир поэта; рассказ «Круг» интересен тем, что использованный в нем композиционный прием (композиционное кольцо) будет использован позже в романе «Дар» (эпизод с потерей ключей от квартиры вначале повторится в последней главе).
Интересно заметить, что от главы к главе «Дар» выходит за рамки «метаромана»: автор выступает в нем в роли не только создателя вымышленных художественных образов, но и в роли литературного критика, что доказывает наличие в нем одну из главных черт филологического романа. В отличие от простого цитирования, в нем наблюдается авторская переработка текстов. Самой оригинальной можно считать заново переписанную биографию Чернышевского.
Жизнеописание главного героя выстроено так, что внимание автора сконцентрировано на развитии поэтического дара Федора, а жизненный сюжет является дополнением и оформлением его «поэмы», при создании которой Чердынцева больше всего интересовала работа над ее формой: «И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покатилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось “Благодарю тебя, отчизна…” И снова полетело за ответом: “..за злую даль благодарю…”» [13: 240]. Содержание привлекло внимание создателя поэмы, когда она была написана: «На прощание попробовал вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи.
Благодарю тебя, отчизна,
За злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
Я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
Сама душа не разберет,
Моё ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет… —
и только теперь поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил – и одобрил» [13: 242].
Ю.Б. Орлицкий при анализе набоковского «Дара» обращает внимание на проземетричность (монтаж стиха и прозы) романа, «своего рода символа веры всего набоковского творчества» [113: 506]. В ткань романа попадают стихи и с теоретико-литературными замечаниями в контексте русской литературы, а сам роман сознательно перенасыщен автором стихами. Эта особенность придает роману уникальность, возможность балансировать между жанрами.
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/161891/161891.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/162449/162449.jpg)
![Иоанна Хмелевская - Роман века [вариант перевода Фантом Пресс]](/uploads/posts/books/161769/161769.jpg)