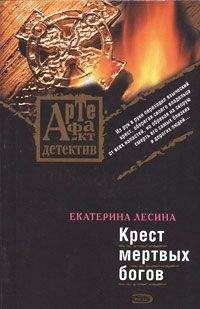Виталий Аверьянов - Крытый крест. Традиционализм в авангарде
В настоящий момент напечатаны три первые главы работы Лосского: «Имя неименуемое», «Имя всеименуемое», «Я есмь Сущий». В 4-й, еще не опубликованной главе работы, Лосский покажет решительное сближение Экхарта с Дионисием и соответственно отдаление его от Фомы Аквинского в том, что касается истолкования апофатического богопознания (апофаза не восхождения, а противопоставления, апофаза парадокса). В трех же первых главах Лосский сконцентрировался на нюансах апофатического и катафатического методов теологии в их экхартовском исполнении и наглядно показал черты уникальности и специфики немецкого духовного писателя. Эта уникальность выявляется в сопоставлении Экхарта со всеми его великими «партнерами», с которыми он вступает в собеседование на страницах своих трактатов и проповедей. В первую очередь это блаженный Августин, св. Иоанн Златоуст, св. Дионисий Ареопагит. Лосский показывает, как в различных аспектах своего богословия Экхарт выстраивает самостоятельную линию, время от времени не соглашаясь с признанными авторитетами. Так, например, в отношении бл. Августина это проявляется в трактовке мистического интростаза (не озарение через соприкосновение разума с богом-Истиной, как это выглядит у Августина, но погружение в интимное пространство «внутреннего человека», ориентация на область транс-психического, на поиск сокровенного Бога в глубинной основе личного сознания). В вопросе о «Едином» Экхартявно полемизирует с Дионисием и отходит от его концепции ближе к неоплатоникам: Единое выступает у него как иерархически высшее по отношению к Благу божественное имя, символизирующее мощь разума, который достигает ступени соединения всех атрибутов. Лосский не устает отмечать многочисленные отсылки Экхарта к Фоме Аквинату, что, тем не менее, лишь подчеркивает несходство их мировоззрений вопреки западной традиции «томистского» прочтения Экхарта (О. Karrer, Denifle, G. Thery).
Апофатическое богопознание у тюрингского доминиканца направлено на проникновение в область «енутреннейшего человека – препространнейшего, ибо он велик без величины». Одним из поразительных качеств Экхарта является связность той диалектики, которая складывается у него на уровнях микрокосма и макрокосма, а также стройность пропорций, который выстраиваются от внутрибожественной жизни (жизни Троицы) к происхождению творения.
Одной из издержек этого напряженного созерцания «таинственных соответствий» стало учение Экхарта о тождестве двух актов: внутрибожественного рождения Бога-Сына и сотворения мира. «Одно и то же речение изводит Слово и творит мир. Бог творит в Начале, т. е. в Себе Самом… Однажды сказал Бог и дважды слышал я это (Пс. 61, 12)». Сотворение мира выступает в этом учении как эхо троичного сотворчества, как своеобразное экранирование сокровенного в откровенном, экранирование внутрибожественных тайн во внешних эманациях. Именно это учение послужило одним из главных поводов к обвинению в ереси и было осуждено папой уже после смерти Мейстера Экхарта.
Одной из главных загадок экхартовской мистики остается связанный с этим отмеченным только что параллелизмом трансцендентных и тварных структур духовной реальности его двууровневый онтологизм. Ряд исследователей (как, например, Альберт Штекль) на полном серьезе приписывали Экхарту наследование пантеистическому учению каббалистов и Эриугены. Однако при ближайшем рассмотрении (и это можно отчетливо увидеть у Лосского) от мнимого «пантеизма» немецкого мыслителя не остается и следа.
Позволю себе небольшое отступление. Как это ни удивительно, противоречия между средневековыми формулами теизма и пантеизма основываются, похоже, на путанице в терминах, произошедшей при истолковании одних и тех же источников. Многозначность понятия «ничто» спровоцировала многих толкователей Ареопагита смешать различные значения термина, что привело к диковинным результатам. Так, в ряде каббалистических толкований ареопагитическое понимание Божественного Ничто (ничто как «не-нечто») превращается в непостижимое небытие, в котором надо мыслить Бога в его самобытии – отсюда следует интерпретация «сотворения мира ех nihilo» как эманации из божественного «ничто». Если извращение терминологии продолжить, то от этой пантеистической формулы можно прийти и к «черной магии», обожествляющей «ничто-пустоту». Однако ни этот экстравагантный ход мысли, ни пантеизм Эриугены, для которого не существует никакого метафизического ничто-небытия (то есть ничто как отсутствия бытия), не имеет сколько-нибудь тесного отношения к мировоззрению Экхарта. Одним из патетических мотивов у Экхарта является как раз собирание и сосредоточение души, которая как бы отворачивается от внешнего и видимого мира, создает в себе ауру небытия, безобразного, бесчувственного пространства, не с тем чтобы «обожествить» природу, как это делают пантеисты, но, напротив, «изничтожить» ее пред лицом Сверхсущего.
Тварный мир выступает у Экхарта как внешний отзвук «безмолвного слова», пребывающего в Отчем Уме; однако же, мир сотворен ex nihilo, и всем сотворенным вещам даровано «бытие после небытия». Таким образом, Экхарт говорит одновременно о двух отличных друг от друга разновидностях бытия: о чем-то вроде сверх-бытия (бытие-в-Боге) и просто-бытия (существование тварных вещей). Экхарт признает, что сами имена Бытия и Блага, усваиваемые Богу в катафатическом богословии, представляют собой обозначения не сущности Бога, а Его исхождений, Его являющей, производящей силы. И тем не менее это не мешает Экхарту рассматривать Бытие (Esse) как метафизический корень божественного существа. Тварное бытие предстает у Экхарта как «средний термин» между Богом и ничто, поэтому мистик призван «освобождать» свою душу от всех следов «ничто», последовательно сосредотачивает ее в той сокровенной точке, которой она соприкасается с первым термином – противоположностью небытия, Божественным Бытием.
Божественное Бытие (по сути, Сверх-Бытие) выступает по отношению к просто-бытию как неприступный мрак, «мрак Моисеев», совершенная пустота, сокровенное «небытие» и «молчание», таящиеся в глубине вещей, в их священном, алтарном нутре. Там поселяется «Спящий и сокрытый в Себе самом». Там же по принципу соответствий осуществляется и первое действие Бога – творение зарождается в непространственной и нефизической глубине сущего (в центре мирового круга). В сокровенной глубине души, как в микрокосме, может происходить таинственное переключение, «щелчок», в результате которого в нем воцаряется структура божественного макрокосма: совлекшись всего внешнего и множественного, собравшись духом в точку глубинного «единства», человеческий дух приобщается Единому как нетленному и способен обнаружить сокровенные божественные тайны, которые не даются мистикам на пути интеллектуального и созерцательного богопознания.
Лосский справедливо указывает, что для описания этого сокровенного Сверх-бытия Экхарт прибегает к таким апокрифическим источникам как «Книга двадцати четырех философов» и некоторым другим герметическим и псевдо-герметическим текстам. В «Книге», созданной в XII в., метафорически выражается самотождественность божественного бытия как «кипение» или «горение». Лосский виртуозно истолковывает эти не вполне внятно и развернуто поданные в оригинале мотивы как «внутренний динамический покой» – действительно, именно так следовало бы истолковать данную метафору. У Плотина, указывает Лосский, аналогом данного представления выступала «прозрачность», то есть такое состояние, когда рассмотрение одних атрибутов не мешает видеть через них множество иных атрибутов, их одновременную жизнь, в конечном счете, единую и неразличенную, но в порядке человеческого разумения представленную как связанные между собой отдельности.
«Бог как вновь почивший» после пути рождения Сына и исхождения Духа – это устойчивость, «парящая тишина», полнота покоя, однако же покоя, результирующего в себе живую динамику. Именно поэтому в творении «всяческих» важны все детали: каждый камень, каждое дерево и каждый ангел не случайны, не лишни, не извлекаемы безвозвратно из круга творения – и это отличает Omnia (всяческая) от Nihil (ничто). В творении реализуется полнота во множественности – ей противопоставлено ничто как противоположность всех и исключение каждого. Такое сопряжение смыслов, которого достигает в данном случае Лосский, выдает в нем православного мыслителя, обогащающего исследуемый материал интуициями и открытиями святых отцов христианского Востока.
В третьей из опубликованных глав перевода описывается библейское «Аз есмь Сый» как единственно верное именование Бога, обозначение его онтологического статуса. Если метафизическим свойством твари оказывается «нужда в ином», логически выраженная как зависимость субъекта от предиката (через определение, т. е. ограничение субъекта), то в самоименовании Бога (Я есмь Сущий) постулируется Его самодостаточность. Экхарт употребляет термин anitas (естьливость), который, по Лосскому, восходит к арабскому anniya («то, что есть ли»). В Боге реализовано тождество чтойности и естьливости, поскольку само Бытие (Esse) Божие обусловлено его Сущностью (Essentia). В этом тавтологическом парадоксе происходит снятие вечного разрыва, который был запечатлен в самой природе логики тварного разума. Выход в металогическое пространство божественного бытия (сверхбытия) предстает в немецкой мистике как вхождение в сокровенное измерение «внутреннего человека».