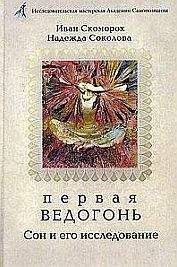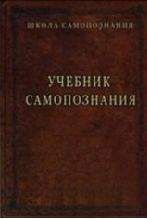А. Андреев (А. Шевцов) - Этнография
— Что-нибудь начальное, — пожал я плечами.
— Начальное! — засмеялся он тихонько. — Тут ведь сразу и не придумаешь, что начальное… Ну, бей меня, что ли… Драться давай.
Я встал в стойку и начал «двигаться», как это называлось, когда я занимался в карате. Надо сказать, что у меня к этому времени была кое-какая подготовка в боксе, самбо и восточных единоборствах. Ну и изрядный опыт уличных драк. Поэтому и «подвигаться» для меня означало не драться, а играть в искусственный бой, обозначая удары и демонстрируя собственное искусство. Надо сразу сказать, что Похане нужно было не это. Ему нужно было настоящее.
Забегая вперед, скажу, когда я в попытке понять, что же ему нужно, хотел врезать, как в уличной драке, он просто мгновенно исчез из моей досягаемости и засмеялся:
— Ты что?! Убьешь меня, кто тебя учить будет? По-настоящему, это не в озверении и не насмерть. Учись удары класть на кожу и вообще без вреда. А ты то сдерживаешься, то зверь зверем, а тебя-то и нет. Любки у тебя пойдут, только когда ты себя найдешь…
Вот так Любки для меня стали долгим поиском себя. Но об этом я расскажу как-нибудь особо, потому что это было еще впереди. А в тот раз до этого не дошло.
Едва мы начали «двигаться» или «драться», как Поханя ткнул куда-то возле моей головы:
— У тебя склянь.
Я уже говорил, что собирал и изучал ремесла. В том числе учился и выделке шкур. Поэтому я знал слово, которое он сказал. Склянью скорняки зовут ороговевший участок выделанной шкуры. Такой участок становится твердым и хрупким, как стекло, и при перегибах ломается, портя кожу. Это-то я понимал. Но я напрочь не понимал, что имеет ввиду Поханя. Какая у меня, живого человека, может быть склянь. И куда он тычет пальцем.
А Поханя между тем снова выдвинул стулья и уселся за столом. Любки уверенно закончились не начавшись. Я сел напротив его.
— Чего тут у тебя? — Повторил он, показывая глазами влево вверх от моей головы.
— Ничего.
— Ну, ты же драться со мной не можешь. Тебе что-то мешает.
— Ничего не мешает.
— Ну, полно, полно! Разве ты так бы дрался с кем-то другим? Ты же со мной не на полную дрался?
— Ну, нет, конечно.
— А как я тебе любки покажу, если ты не настоящий? Любки — это же не драка. Любки — это от чего дети рождаются. Когда с бабой, конечно! Жизнь это, понимаешь. А с мужиком любки — это роды. Ты же ездил к Любе, учился повивать? Так вот Любки — это тоже повивание. В Любках надо взрослому мужику помочь родиться заново. По-настоящему! То есть настоящим! А ты мне кого вместо себя подсунул?
Я что-то понял и попытался сказать, что отношусь к нему с уважением, и не могу против него драться, как на улице, где я ненавижу своих врагов и бью их по-настоящему.
— Это ты кругом ошибаешься! — остановил меня Поханя. — Ты сам-то себя послушай. На улице ты в ненависти, значит, вместо тебя ненависть бьет твоих врагов, твой зверь. А со мной ты в любви и уважении, а из-за этого сдерживаешься. А значит, у тебя заготовлен этакой воинник — боец такой, в котором ты и сражаешься с тем, кого уважаешь. Это не уважение. Это как раз неуважение, ты сам посмотри! Ведь это не ты меня уважаешь, а твой облик для чужих людей мне показывает уважение.
Он дал мне какое-то время подумать. Я, в общем-то, понимал его. Но как только у меня возник вопрос: а что еще можно делать с уважением, как не показывать его? — Поханя точно прочитал его:
— Вот ты думаешь, что уважение такая вещь, которую и надо показывать. А ты подумай. Для того, чтобы что-то показывать, надо его иметь. Стало быть, где-то в тебе есть уважение. Но чтобы я его увидел, ты делаешь театр и показываешь его. Значит, если ты его не покажешь, я его не увижу, такой дурак? Вот, значит, как ты обо мне думаешь?
— Нет, нет, что ты, Поханя, — замахал я руками, — у меня и мыслях не… — начал было я и осекся, глядя на его радостную улыбку. — Ты меня как-то ловишь!
— Конечно, — согласился он. — А как еще. Любки и есть. Так как же с уважением-то? Может ты меня не уважаешь, а хочешь обмануть, чтобы я к тебе хорошо относился?
— Да, нет, конечно! — ответил я, заглядывая в себя.
Там в глубине я точно знал, что относился к нему с огромным уважением. Хотя какая-то привычка относится ко всем стариками слегка свысока, из положения более сильного и образованного человека, у меня была. Но она была общей ко всем старикам, а не именно к Похане. Да к тому же после Степаныча и Дядьки от нее осталась лишь тень. А за нею я относился к Похане с предельным для меня уважением.
— Нет, Поханя, я тебя по-настоящему уважаю, — искренне сказал я.
— Да я вижу, — продолжал он улыбаться. — А как же получается, что ты вместо себя мне артиста-то подсовываешь? Разве это уважение? Настоящее уважение между двумя мужиками — это когда открыто, искренне, а? Два мужика в Любках могут походить только сами, не закрываясь личинами…
Ну, я хочу сказать, что ты целый день где-то крутишься, — дела, работа, люди поганые, врать приходится, прятать душу, закрываться… А вечерком бежишь ты к другу, сбрасываешь шелуху эту всю, вылезаешь из обликов на свет в чем мать родила, и в любки, а потом в баньку. Или наоборот, сначала в баньку. Очистился и в любки. Вот это любовь и уважение. А тебе что-то мешает.
— Ну, не то, чтобы мешает… — я хотел сказать, что не мешает, а как раз наоборот, это я сам так делаю, чтобы было лучше. Но у меня тут же появился вопрос: А зачем я так делаю?
Но вместо ответа на него, я попытался представить, что выхожу на бой, скинув все заготовленные бойцовские облики: и дружественного спаринг-партнера, и бойца-гладиатора, нацеленного на спортивную победу, и зверя, готового убить любой ценой, и хитрилу, который себя не подставит и ударит только тогда, когда обманет и отвлечет. Но бить будет жестоко…
Я увидел их и понял, что не могу без них, там так много всего за ними, что заставило их создать, что это немыслимо рассказать и даже охватить единым взглядом. И, в первую очередь, там боль, много боли от поражений, трусости и слабости. Но самое главное, что из-за всего этого я действительно не могу просто выйти на бой, раскрыться и быть самим собой с другим человеком.
— Мешает, конечно, мешает…
— Вот, вот, склянь у тебя, — снова показал он куда-то возле моей головы.
— Ты понимаешь, Поханя, — попытался я было начать свой рассказ, но он меня остановил.
— Погоди, не лезь туда. Ты там утонешь. Ты мне склянь эту увидь.
Тут до меня вдруг доехало, что все это время он просто учит меня что-то видеть, что-то действительно существующее, где-то в пространстве возле моей головы. Очевидно, в сознании, сказал себе я. И начал перестраиваться внутренне. Не могу так сходу сказать, что ты делаешь, когда перестраиваешься, чтобы понять колдуна. Но ты определенно меняешь в себе что-то такое, что становится видением.
— Где склянь? — переспросил я его, и этот вопрос, и напряжение были частью этой перестройки.
— Вот, вот, — ткнул он пальцем над моим левым виском. Я попытался туда мысленно «посмотреть».
— Да ты не смотри, — остановил меня Поханя. — Ты просто скажи, что там?
— Ничего… ничего… какое-то напряжение… или тяжесть…
— Да, нет, ты просто скажи, что там. Просто открой рот и вали самокатом, что пойдет.
Легко сказать, вали самокатом. Я уже пять лет как владел Кресением и знал, что такое самокат, но по-прежнему мне было просто вывалить из себя только знакомое или похожее на знакомое. И каждый раз переход на новый уровень работы был трудным, точно роды.
— Тужься, тужься, — засмеялся он. И меня вдруг прорвало:
— Учителей нужно уважать. Иначе они не будут тебя учить. В обшем, их надо покупать уважением. Это унизительно. Я не могу это делать. А надо. А что же делать? А что делать?! Покупать. Но какой он после этого учитель, если я смог его купить? Если он продается и покупается? Да еще и на такую дешевку? Он не Учитель с большой буквы. Но учиться-то надо! А как учиться у человека, которого не уважаешь? С этим нельзя жить. Это нельзя видеть. Надо закрыться, зажмуриться, закрыть глаза ладонями, сжаться в комочек и спрятаться поглубже, чтобы не видеть этого позора. А как же учиться?
А я создал Ученика! Идеального ученика, который будет нравиться всем учителям. С блестящими китайскими глазами. Почему китайскими? А потому что все видели фильмы про китайских учеников кунфу. Вот и пусть получат такую же фальшивку, как и сами…
— Катя, Катя! — вдруг заорал Поханя. — Самовар, Катя! У нас мальчишка родился.
К стыду моему, должен признаться, в то время я почти не знал Платона, хотя Дядька и заставил меня перечитать все о смерти Сократа. Но о майевтике, о Сократовской науке повивания, у меня было какое-то смутное представление. И я не скоро сообразил перечитать те диалоги, где Сократ говорит о родовспоможении. Но я перечитал это все после Поханиного ухода в конце 1991 года. Жаль, что понимание всегда приходит к нам с запозданием. И чаще всего с таким, что бывает уже безвозвратно поздно… На что мы тратим то время, когда можно было полноценно учиться, когда еще было, у кого учиться?