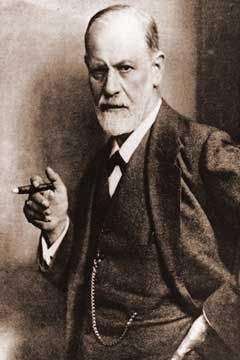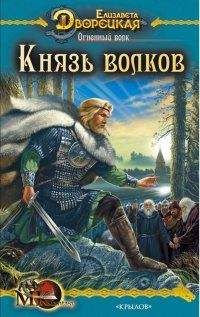Гастон Башляр - Психоанализ огня
Герой одного из южноамериканских мифов, стремясь добыть огонь, преследует женщину (с. 164). «Он настиг ее прыжком, поймал и сказал, что возьмет ее, если она не откроет ему тайну огня. После нескольких попыток вырваться женщина согласилась. Она уселась на землю, широко раздвинув ноги. Обеими руками она хорошенько надавила на верхнюю часть живота, и из детородного отверстия выкатился на землю огненный шар. Но это был не тот огонь, что известен нам сегодня: он остыл, и на нем нельзя было сварить еду. Как только женщина его отдала, он потерял свойства огня. Однако Аджиджеко заявил, что может поправить дело. Он набрал всего, что жжется: всякой жгучей коры, плодов, красного перца, и, смешав все это с огнем женщины, разжег тот самый огонь, которым мы пользуемся и поныне». Этот пример дает нам прозрачное описание перехода от метафоры к реальности. Заметим, что речь идет не о переходе от реальности к метафоре, согласно постулату реалистической интерпретации, а в точности наоборот: от метафор субъективного происхождения к объективной реальности, в духе того тезиса, который мы отстаиваем. Жар любви, смешанный с огнем перца, в конечном итоге воспламеняет сухую траву. Именно этим абсурдом объясняется открытие огня.
Вообще, читая богатейшую, увлекательнейшую книгу Фрэзера, невозможно не поражаться бедности реалистического толкования. Число рассматриваемых легенд, вероятно, приближается к тысяче, и только в двух-трех из них выявлен сексуальный смысл (с. 63 — 267). В остальном, несмотря на то что аффективный смысл подразумевается, господствует представление, будто цель создания мифа — объективное толкование. Так (с. 110), «гавайский миф о происхождении огня, как и множество австралийских мифов этого рода, призван объяснить особенности окраски некоторых видов птиц». В другом месте похищение огня кроликом служит объяснением рыжего или черном цвета его хвоста. Подобные толкования, внушенные какой-то объективной деталью, упускают из вида первоначальную заинтересованность в аффективной сфере. Первобытная феноменология есть феноменология аффективности: из фантомов — проекций фантазии — она творит объективные сущности, желания перевоплощает в образы, соматический опыт — в материальный, любовь — в огонь.
7
С большей или меньшей степенью основательности пытаясь воссоздать первобытное состояние, романтики, сами того не подозревая, возвращаются к темам сексуально окрашенного восприятия огня. Г. Г. фон Шуберту принадлежит, например, фраза, суть которой в действительности проясняется только в свете психоанализа огня: «Подобно тому как дружба подготавливает нас к любви, так же и в результате соприкосновения сходных тел возникает ностальгия (тепло) и вспыхивает любовь (пламя)». Можно ли удачнее выразить, что ностальгия — это воспоминание о тепле гнезда, память о лелеемой в сердце любви к «саlidum innаtum»? Поэзия гнезда, отчего дома не имеет иного истока. Никакое объективное впечатление, полученное при наблюдении гнезд в кустарниках, никогда не подарило бы нам изобилия эпитетов, оценивающих тепло, негу, уют гнезда. Забыв о том, как человек согревает человека, словно стремясь удвоить собственное природное тепло, трудно понять, почему влюбленные говорят о своем укромном гнездышке. Таким образом, тепло нежности — источник сознания блаженства. Точнее говоря, оно и есть осознание истоков блаженства.
Вся поэзия Новалиса могла бы получить новую интерпретацию при рассмотрении ее с позиций психоанализа огня. Она выражает напряженное стремление пережить первобытное состояние. Сказка для Новалиса всегда в той или иной степени космогонична. Она современна порождающим друг друга душе и миру. По его словам, сказка — это «эра… свободы, первобытное состояние природы, эпоха, предшествующая Космосу». И тут в своей откровенной амбивалентности выступает божество трения, творец и огня, и любви. Прекрасная дочь короля Арктура, «опершись на шелковые подушки, возлежала на троне, искусно изваянном из громадного серного кристалла, а служанки усердно растирали ее нежные члены, где, казалось, текло молоко, окрашенное пурпуром.
Под прикосновениями служанок тело излучало восхитительное сияние, озарявшее чудным светом весь дворец…»
Это сияние исходит изнутри. Существо, осыпаемое ласками, сияет от счастья. Ласка — не что иное, как символическая, идеальная форма трения.
Но сцена имеет продолжение.
«Герой стоял в молчании. — Позволь мне коснуться твоего щита, — нежно промолвила она». И когда он изъявил согласие: «Его доспехи зазвенели; он ощутил всем телом волну живительной силы; взгляд его блеснул молнией; громкое биение сердца раздавалось из-под кирасы.
Прекрасная Фрея, казалось, посветлела лицом, а исходившее от нее сияние сделалось еще более жгучим.
— Идет король! — воскликнула великолепная птица…» Если уточнить, что это птица Феникс — Феникс, восстающий из пепла, подобно на миг ослабевшему желанию, то в этой сцене более чем очевидна печать двоякой первоначальности огня и любви. Если любовь воспламеняет, то это доказывает, что огонь был разожжен вследствие любви.
«Когда Эрос, вне себя от восторга, увидел перед собой спящую Фрею, внезапно раздался оглушительный грохот. От принцессы к мечу пробежала яркая искра». Точно передавая психоаналитический образ, Новалис должен был сказать: от меча к принцессе. Как бы то ни было «Эрос уронил меч, устремился к принцессе и запечатлел на ее свежих устах пламенный поцелуй».
Стоит изъять из романа Новалиса его интуитивные прозрения о первобытном огне, и, кажется, вся поэзия, все грезы тут же рассеются. Феномен Новалиса столь характерен, что представляется возможным типизировать его в качестве особого комплекса. В области психоанализа нередко достаточно дать название явлению, чтобы спровоцировать некое выпадение осадка: до наименования был лишь аморфный мутный раствор, а когда имя названо, видны осевшие на дно кристаллы. Комплекс Новалиса как бы синтезирует импульс к возгоранию от трения и потребность разделить пламя. Этот импульс, как представляется, возвращает нас к первозданной подлинности доисторического завоевания огня. Комплекс Новалиса характеризуется сознанием внутреннего тепла, всегда преобладающим над чисто визуальным познанием света. Он основан на удовлетворении чувственной жажды тепла и глубинном сознании согревающего блаженства. Тепло — это благо, это некое достояние, которое нужно ревниво оберегать, дабы одарить им лишь одно избранное существо, признанное достойным того, чтобы слиться с ним воедино. Свет играет и смеется на поверхности вещей, но только тепло обладает способностью проникать внутрь. В одном из писем к Шлегелю Новалис писал: «Пусть в этой сказке тебе откроется моя нелюбовь к игре светотени и желанность для меня ясного, теплого и всепроникающего Эфира».
Эта потребность углубления внутрь вещей, проникновения в глубь человеческого существа рождена интуитивным влечением к внутреннему теплу. Тепло способно проникнуть туда, куда не проникнет ни взгляд, ни рука. Это единение глубин, термическое сродство облекается Новалисом в символ сошествия в недра горы, в пещеру и рудник — туда, где тепло равномерно разлито, где оно растворено, словно очертания сна. Как точно заметил Нодье, всякое описание сошествия в ад имеет структуру сна. Новалис грезил жаром земной утробы, как иным снится блистательно-холодный небесный простор. Рудокоп для него — это «астролог наоборот»; Новалис живет скорее концентрированным теплом, нежели лучистым сиянием света. Как часто он предавался медитации «на краю темной бездны»! Он стал поэтом минералов не потому, что был горным инженером; будучи поэтом, он стал инженером, ибо подчинился голосу подземных недр, призывающему вернуться в «саlidum innatum». Рудокоп, по его словам, — это герой глубин, готовый «принять небесные дары и в блаженном восторге покинуть мир с его невзгодами». Рудокоп воспевает Землю: «С Нею ощущает он тесное, глубокое единение; к Ней пламенеет он страстью, словно к невесте». Земля — материнское чрево, теплое, как родное лоно в подсознании ребенка. Одно и то же тепло живит и камень, и сердца (с. 127). «Казалось, в жилах рудокопа пылает огонь земных недр, зовущий его спускаться все глубже и глубже».
Там, в сердцевине, — проросшее семя; там огонь порождающий. Что прорастает, то горит. Что горит, то дает росток. «Мне нужны… цветы, растущие в Огне… — Цинк! — позвал Король. — Дай нам цветов… Садовник выступил вперед, взял наполненный пламенем горшок и бросил в него сверкающее семя. Немного погодя взошли цветы…»
Возможно, человек позитивного ума возьмется развернуть перед нами пиротехническую интерпретацию. Он продемонстрирует, как сверкающее пламя цинка выбрасывает в воздух ослепительно белые хлопья окисла, напишет формулу окисления. Но, выявив химическую причину чудесного явления, эта объективная интерпретация не поможет нам проникнуть в сердцевину образа, в ядро комплекса Новалиса. Даже с точки зрения классификации образных ценностей эта интерпретация будет обманчива, ибо, следуя ей, мы не поймем, что у такого поэта, как Новалис, преобладает потребность ощущать, а не видеть, что здесь на первое место, прежде гетевского света, должно быть поставлено ласковое темное тепло, пронизывающее все фибры бытия.