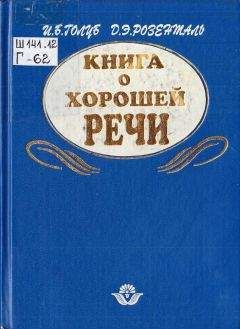Наталья Яковкина - История русской культуры. XIX век
В начале 40-х годов отделения философского факультета Петербургского университета были преобразованы в самостоятельные факультеты — историко-филологический и физико-математический. В 1854 году был создан еще один факультет — восточный.
Независимо от факультетов по уставу 1835 года во всех университетах были учреждены кафедры богословия, церковной истории и церковного законоведения, причем эти предметы стали обязательными для всех студентов. Постепенно для расширения этих курсов стал сокращаться и ряд философских дисциплин, а преподавание логики и психологии было передано профессорам богословия.
Но этим система перестройки высших учебных заведений не ограничилась. Одним из важнейших звеньев ее являлась сословная ориентация школы. В этом плане министерством просвещения был осуществлен ряд мероприятий, препятствующих обучению в университете лиц недворянского происхождения. Среди них и неуклонное повышение платы за обучение, в результате которого к концу первой половины XIX века в Петербургском и Московском университетах она достигла 50 руб. в год, и ограничение количества казеннокоштных студентов. Итоги этой политики не замедлили сказаться — в 40-е годы XIX века в Петербургском университете из 500 студентов 300 были дворянами.[56]
Наряду с этим был предпринят ряд мер по существу полицейского характера, призванных дисциплинировать «вольнодумные университеты». Это прежде всего проверка читаемых лекций, возникшая сразу же после 1825 года. Вот как вспоминал об этом один из бывших студентов Московского университета: «На лекциях профессоров стали показываться военные мундиры. На пробной лекции философии, которую разрешено было в 1826 году читать профессору Давыдову, мы в первый раз увидели императорского флигель-адъютанта: это был молодой граф С. Г. Строганов, впоследствии попечитель университета. Не знаю, заключение ли графа Строганова о духе лекции или чьи другие, но только кафедра философии была закрыта, и профессор И. И. Давыдов остался без места».
Другой подобной мерой была своеобразная «милитаризация» университетской жизни. Попечителями учебных округов стали назначаться люди военные, призванные навести в университете «порядок» и утвердить дух военной дисциплины. Штатным расписанием университетов были введены должности инспектора и субинспектора для надзора за студентами. Так, в Петербургском университете при трехстах студентах был один инспектор и четыре субинспектора. «Официально-казенное наблюдение за образом жизни студентов, — вспоминал сын известного историка, тогда бывший студентом университета, Ф. Н. Устрялов, — не имело особого значения… студентам выдавались билеты, которые должны были каждый месяц представляться инспектору, и он в них расписывался… Но действительное наблюдение сосредотачивалось в стенах университета и прямо зависело от бдительного ока нашего тогдашнего попечителя М. Н. Мусина-Пушкина… Получив самое ограниченное образование, он прежде служил в военной службе и, может быть, нюхал порох, но, конечно, не изобрел его. Он все спасение видел в дисциплине прежних аракчеевских времен. Дисциплину он старался применить и к науке, и к профессорам, и к студентам. Вид его был свирепый: густые нахмуренные брови, крючком выдающийся нос и угловатый подбородок обозначали некоторую силу характера и упрямство… Мусин-Пушкин стремился олицетворять собой идеал маленького деспота, считая, что только одним страхом можно воздействовать на молодежь».[57] Попечителем Московского учебного округа в 1825 году был назначен генерал-майор А. А. Писарев — «фрунтовый генерал». Он «посещал университет всегда в полном мундире со звездой и лентой, держал себя воинственно, говорил строго, отрывисто и громко. Имел ли он какое-либо понятие о науке? Этого, без сомнения, не было».[58]
Следующей дисциплинарной мерой было введение формы для преподавателей и студентов университета. Причем соблюдение ее, по воспоминаниям современников, составляло «вопрос величайшей важности». Инспектор, субинспекторы и даже попечитель следили за этим неукоснительно. «…Инспектор университета Фитцум фон Экштет почти каждый вечер отправлялся на какое-нибудь публичное гулянье, чтобы захватить тех из студентов, которые явились на гулянье в фуражке, а не в форменной шляпе. К позднему вечеру этого же дня аудитории наполнялись арестованными, а попадавшиеся не в первый раз отсиживали урочные часы в карцере».[59] Наряду с обязательным ношением форменного мундира и треугольной шляпы студенты должны были, подобно настоящим военным, отдавать честь генералам и членам императорской фамилии, становясь «во фронт» и опустив с плеча шинель.
В чиновном Петербурге, видимо, строже взыскивали со студентов, а вольнолюбивое московское студенчество бойкотировало установленные порядки. «Всех нас, своекоштных студентов, — вспоминал бывший выпускник Московского университета, — заставили носить форменные сюртуки… Но как-то форма не клеилась: при вицмундире одевалась крымская или круглая шляпа, шаровары а ля „казак“ и т. д… шалунов это тешило, хотя иногда они и квитались карцерным заключением; поплатился и я за единственные гороховые панталоны».[60]
Кроме притеснений начальства, другой и, может быть, более серьезной трудностью студенческой жизни была материальная необеспеченность значительной части «универсантов». Несмотря на стремление правительства сделать университеты дворянскими, туда проникала и несостоятельная разночинная молодежь; особенно наблюдалось это в периферийных университетах (Казанском, Харьковском и др.). Кроме того, и среди студентов-дворян были и мелкопоместные, и дети чиновников, не имевшие ничего, кроме отцовского жалования или пенсии. Положение таких студентов было очень тяжелым, так как даже государственная стипендия едва обеспечивала существование. Стипендии в 150 р. ассигнациями в год «едва хватало на самую умеренную пищу и простую одежду». Поэтому «университетские студенты, получавшие казенное содержание, изыскивали средства подкреплять свой скудный быт то переводами иностранных книг на русский язык, то преподаванием уроков на стороне дворянским детям обоего пола». Нелегким был хлеб такого домашнего учителя — в любую погоду осенью и зимой, в плохой обуви и легкой шинели шли студенты часто на другой конец города, их ждал «высокомерный прием и более чем скромная плата».
Переводы иностранных книг были также непростым делом. «Нередко случалось, что переводчик, не понимая хорошенько самого содержания оригинала, не будучи довольно силен в языках, — кое-как клеил свое создание… Студент, переведший по своей воле, а не по заказу, какую-нибудь книжку, положим, роман, переписавши его чистенько, отправляется, бывало, робкими стопами в лавку, например, значительнейшего в то время московского книгопродавца Матвея Глазунова. Вот бородатый книжник воздымает на широкой длани рукопись и таким образом, не читавши, по весу решает участь ее».[61] Цены здесь тоже были низкие — 3–4 руб. за печатный лист.
Несмотря на все трудности, приток слушателей в российские университеты в первой половине XIX века возрастал с каждым десятилетием. Если первоначально количество студентов в некоторых университетах исчислялось двумя десятками (например, в Петербургском, Казанском), то за период с 1833 по 1852 год общее число студентов (во всех университетах) увеличилось с 2725 человек до 3758, то есть на 1033 человека.
С годами оживляется университетская жизнь, увеличиваются библиотеки, растут коллекции, возникают новые лаборатории, музеи.
Так, к 50-м годам XIX века при Московском университете создаются Музей естественных наук. Клинический институт, при нем — глазная клиника, ботанический сад с двумя оранжереями, Повивальный институт с родильным госпиталем, богатая библиотека. На Пресне открылась астрономическая обсерватория. Совершенствуется и методика преподавания. Если в начале XIX века многие университетские профессора читали курсы по своим же книжкам, не отрываясь от текста и не задумываясь о том, насколько усваивают слушатели материал, то в 30–50-х годах появляются прекрасные лекторы и педагоги, лекции которых захватывают студенческую аудиторию. Таким, например, был профессор всеобщей истории Московского университета Тимофей Николаевич Грановский.
Лекции Грановского собирали различную аудиторию, среди слушателей бывали не только студенты, но и офицеры, ученые, дамы и просто любознательные москвичи. Вот как вспоминал о лекциях Грановского бывший выпускник Московского университета, позднее профессор его, известный ученый-историк С. М. Соловьев: «Он не мог похвастаться внешней изящностью речи: он говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова. Но внешние недостатки исчезали перед внутренним достоинством речи, перед внутренней силой и теплотой, которые давали жизни историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям… В Грановском была неотразимая притягательная сила, которая собирала вокруг него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно сказать, что тот, кто был врагом Грановского… был дурной человек».[62] С. М. Соловьев отметил не только глубокую научность лекций Грановского, красочность изложения, но и огромное нравственное воздействие личности ученого, его мировоззрения. Об этом же вспоминал и А. И. Герцен, тоже слушавший лекции Грановского: