Ольга Семенова - Повседневная жизнь современного Парижа
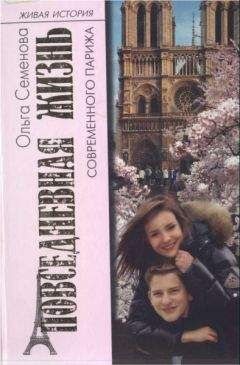
Обзор книги Ольга Семенова - Повседневная жизнь современного Парижа
Семенова О. Ю. Повседневная жизнь современного Парижа
Моей маме
Вступление
Жизнь — это Париж, Париж — это жизнь!
Из дневника Марии Башкирцевой. 1873 годВпервые я оказалась в Париже подростком, в обманчиво-близком 1980 году. Произошло это, как и все хорошее в моей тогдашней жизни, благодаря папе. Он был собственным корреспондентом «Литературной газеты» в Западной Европе, ездил с пишущей машинкой и неизменным диктофончиком из страны в страну, а базировался в ФРГ. После сонного бюргерского благополучия предместья Бонна, где мы жили, сверкавший огнями реклам, кинотеатров и кабаре Париж (недаром его называют Город-Свет) меня поразил. Той августовской ночью мы шли по Елисейским Полям в густой толпе туристов, — парижан в этот жаркий месяц в городе почти не остается, — а со всех сторон тревожно вспыхивали неоновым, красным, зеленым витрины и вывески. Тогда я впервые, несмотря на то что отец был рядом, ощутила свою малость. От широкой авеню отходили десятки улиц, впереди, во мраке, загадочно шумели листвой высокие деревья сада Тюильри, сбоку возносилась к освещенным луной облакам Эйфелева башня, под узорчатыми мостами текла темная, как нефть, широкая Сена, а с плакатов кинотеатров «Гомон» смотрела на мир всезнающе-печальными рысьими глазами бессменная голландская героиня очередной «Эмманюэль» Сильвия Кристель — в плетеном кресле, коротковолосая, хрупкая, не представлявшая, что через пару десятков лет ждут ее бедность, одиночество и тяжелая болезнь…
Спать мы пошли на улицу Вашингтон, в старую квартиру восьмидесятилетней подруги моей бабушки Натальи Петровны Кончаловской — Джульетты Форштрем, чей портрет кисти П. П. Кончаловского хранится в Третьяковской галерее. Дочь шведа, владельца московской шоколадной фабрики, ставшей после революции «Красным Октябрем», она выросла в России, в начале 1920-х уехала с родителями во Францию и вышла замуж за внука президента Франции Сади Карно — Пьера Кюниссе-Карно. Я, помню, удивлялась музейной пропыленности этого высокопотолочного жилища, маленькому кухонному окошечку, выходившему на мрачный внутренний дворик, потемневшей от времени допотопной ванне на коротеньких изогнутых ножках, огромному количеству пробирок в старом шкафу Джульетты. Их использовал для химических опытов горячо ею любимый муж, и вдова хранила эти мутные стекляшки, как реликвию, долгие годы после его смерти. Джульетта вообще ничего не меняла, и я тогда не могла знать, что очень часто старые одинокие парижанки доживают по четверть века в неотремонтированных квартирах, скользя забытыми родными и смертью тенями за отяжелевшими от пыли гардинами. А утром я удивлялась кокетливой говорливости консьержки, залитой солнцем и продуваемой горячим сухим ветром площади Пирамид перед Лувром, музею Родена с его огромным садом (надо же, центр Парижа — и вековые деревья на гигантских газонах, и клумбы с неистово цветущими розами), колдовским книжным лавкам русских букинистов, где отец, по-бабелевски плотоядно разглядывая корешки книг, покупал запрещенных у нас Бердяева и Розанова. Все то первое путешествие прошло под знаком удивления, настолько Париж не походил на другие европейские и российские города. За первым путешествием через несколько лет последовали второе, третье, а потом сложилось так, что я в этом городе и поселилась. Прошли годы, мои дети — парижане, да и я нет-нет, а ловлю себя на том, что Город-Свет знаю лучше, чем стремительно (как прогоревший шпион меняет явки) сменившую названия улиц Первопрестольную. Но удивление не проходит. Так удивляются любимому человеку, неожиданно открывая в нем новые прекрасные черты. Древность и модерн сочетаются в самом посещаемом городе мира с редкой гармонией. В Латинском квартале, на настоящей римской арене, возведенной в I веке до н. э. и помнящей гладиаторов, няни прогуливают неуклюжих карапузов и пузатенькие парижские пенсионеры со склеротическими прожилками на румяных щеках азартно играют в национальную французскую игру «петанк». Железные шарики с глухим позвякиванием падают во влажный песок арены, старички оживленно переговариваются, всплескивают руками, поправляют кепочки. В 3-м и 4-м округах, на узеньких улочках еще стоят дома XV века с чуть наклоненными вперед фасадами, пересеченными почерневшими от времени балками, все в точном соответствии со строительным искусством Средневековья. А квартиры в них отремонтированы и оборудованы по последнему слову техники. В округах от 1-го до 7-го не редкость здания XVII–XVIII веков с подвалами XIII века — строители использовали старые фундаменты. Потолки в них низки, как в подземельях гоблинов, стены из узеньких коричневых кирпичей холодны на ощупь. Подвалы разделены на маленькие погребки, распределенные между владельцами квартир. Парижане эти погребки ценят и часто используют для хранения вина. Есть в Париже и настоящие термы, где больше тысячи лет назад сильные мира сего со знанием дела мылись, парились и предавались беседам. Увидев термы в 1180 году, средневековый поэт Жан де Отевиль восхищенно написал: «..Дворец королевский, чьи стены возносятся к небу, а фундамент касается царства мертвых!» Сейчас об этом сравнительно небольшом здании такого никто не скажет, зато каждый школьник знает его — здесь обустроен музей Средневековья. Площадь Звезды с сумасшедшими машинами, кажется, несущимися прямо друг на друга, но в следующее мгновение благополучно разъезжающимися по отходящим лучами двенадцати авеню, существовала еще в XVIII веке. Тогда она была большой лесной поляной с разбегающимися от нее тропинками, любимыми охотниками. Когда город разросся, ее лишь включили в его орбиту и, сто лет спустя, поставили в центре Триумфальную арку…
Однажды, приехав в очередной раз в Рим, я поймала себя на мысли, что все его обитатели, будь то местные жители или туристы, похожи на статистов посреди колоссальных декораций гигантского театра эпохи расцвета Римской империи. Фигуранты, массовка, тени. Они могут быть, а могут и не быть. Вечный город от этого не много потеряет. Рим горд и самодостаточен. Он застыл в сознании своего былого величия и способен простоять сотни лет, погрузившись в воспоминания тысячелетней давности. Париж не такой. Он живет в полном симбиозе с парижанами — весело, деловито, чуть суетливо, богемно, игнорируя окурки на тротуарах, как говорят парижане, «нон шалан». Осознание былого величия присутствует в его подсознании, в его каменной подкорке, но не мешает ощущать радость сегодняшнего дня и испытывать жгучий интерес ко дню завтрашнему. Париж древен и по-юношески молод. В чем его тайна? Может быть, в характере обитателей. У парижан дар сохранять прошлое, его модернизируя. Прошлое ими ценится ровно настолько, насколько дозволяет здравый смысл. Старинные дома разрушаются изнутри, остаются только фасады, и за этими фасадами с кариатидами вырастают сверхсовременные жилища и бюро. Потемневшие от выхлопных газов церкви и особняки отцы города с любовной фамильярностью заматывают гигантскими баулами, запускают в них, как муравьев, реставраторов с «умными» аппаратами, очищающими камень, и вот уже дома и храмы неузнаваемы, белы, будто только построены. Прошлое приручено и неразрывно связано с настоящим. Триста-четыреста лет — не срок. Короли — близки и симпатичны, революционеры — славные ребята, Наполеон — очаровательный парень. Все президенты ощущают себя немного революционерами, капельку Наполеонами и чуть-чуть королями. Каждый из них задумывает нечто колоссальное, чтобы себя увековечить. Помпиду — Музей современного искусства, Ширак — Музей на набережной Бранли с коллекциями искусств Африки и Океании, президент Миттеран — гигантскую Национальную библиотеку и стеклянный вход в Лувр в форме египетской пирамиды. Парижане похожи на остальных французов, разве только более нервны, торопливы, порой загнаны скоростью столичной жизни. Они умеют не только темпераментно радоваться, но и сердиться. Да, куртуазные парижане могут иногда «выпустить пар», не случайно за всеми французами утвердилось звание ворчунов. Парижане, как и все французы, гордятся своей историей. Не замалчивают и не переписывают ее постыдные страницы. Умеют сказать на первый взгляд плоское «се ля ви» именно в тот момент, когда это выражение наполняется громадным философским смыслом. Прощают коррупцию и любовные интриги своим политикам, оппортунизм своим начальникам и бравады своим полицейским, но… обижаются, когда турист не говорит по-французски. Обратитесь к парижанину с вопросом по-английски, и он вам коротко, с безупречно холодной вежливостью ответит. Попытайтесь, не боясь наделать ошибок, произнести несколько слов по-французски, и парижанин расцветет, радостно заворкует и ответ на ваш вопрос затянется надолго, перейдя в приятельскую беседу. Для парижанина приезжий, не говорящий по-французски — нонсенс, недоразумение, чуть ли не оскорбление. Не говорить по-французски — значит, не любить по-настоящему Францию, не ценить ее историю, ее культуру, ее моду, ее гениев, не признавать ее особой роли в мире. Одним словом, не испытывать всех тех чувств, с которыми любой француз рождается и умирает. Отношение к языку у французов чуткое, я бы сказала, нервное. И началось это не сегодня. В 1635 году Ришельё основал Французскую академию, чья роль была «разрабатывать и давать правила языку, дабы сделать его чистым, красноречивым и способным служить искусствам и наукам». В 1694 году академия выпустила первый словарь и с тех пор постоянно работает над новыми изданиями. Язык — это гордость французов. Возможно, что более трети их не владеет ни одним иностранным языком, а у выучивших английский он так хромает (над акцентом французов смеются все англофоны) именно потому, что они полностью поглощены языком родным. Вот что писал в 1784 году Антуан де Ривароль в труде, принесшем ему первый приз Берлинской академии: «Все, что не ясно — не французский. Все, что не точно — это английский, итальянский или латынь. Точный, социальный, мудрый — французский не просто язык, а язык человечества». Как ни странно, территориального языкового единства во Франции тогда не было. Еще в начале XX века половина Франции говорила на одном из восьми региональных диалектов (да и сейчас 6–7 процентов стариков на них изъясняются). В XIX веке преступники общались между собой на секретном языке арго. Бальзак и Виктор Гюго первыми «позволили» своим литературным героям использовать его на страницах романов. Сегодня в повседневный язык из арго пришли и утвердились слова «mec» (мужчина), «bidule» (деталь), «fric» (деньги). Одной из форм арго стал верлен. Среди подростков долгое время был распространен жаргон жаванэ (яванский жаргон). Говорившие на нем перед каждой согласной слова добавляли «ав» или «ва». Еще один тип арго — лушербем придумали более ста лет назад мясники ныне уже не существующего крытого рынка Ле-Аль в центре столицы: заменяли первую букву слова на «л», само слово писали «задом наперед», а в конце еще добавляли на выбор «эм», «эс», «ик», «ок» или «мюш». Одно из самых известных слов на лушербеме — «loufoque» — производное от «fou» (сумасшедший, дурной) часто используется современной молодежью. Ее французский, кстати, заметно изменился под влиянием детей последней волны эмиграции из Северной и Центральной Африки. Детей чернокожих парижан называют на английский манер «black», отпрысков арабских — «beur». Говорят они на экзотической смеси французского и верлена, удачно вворачивая арабские слова. Теперь это стало модой, и их говорок переняла почти вся молодежь.



