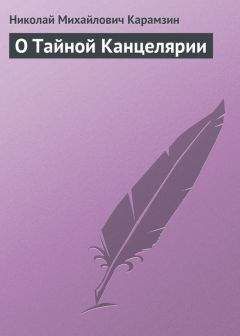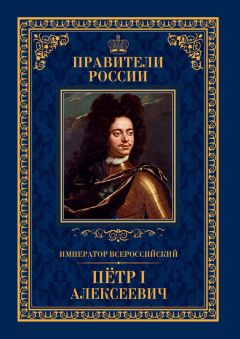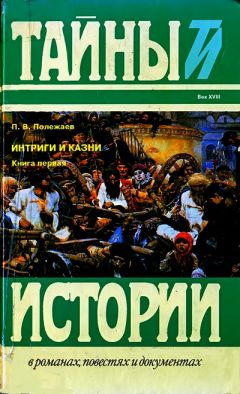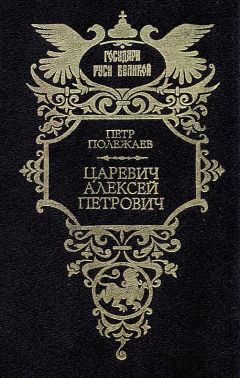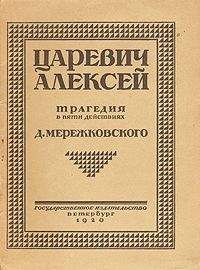Елена Никулина - Повседневная жизнь тайной канцелярии XVIII века
В екатерининское время даже новообращенные раскольники антигосударственным буйством не отличались, стремясь действовать убеждением, в том числе и по отношению к верховной власти. 19 сентября 1788 года 26-летний столичный купец Григорий Васильев направился прямо во дворец, заявив пытавшимся задержать его часовым: «Покайтеся и веруйте по старым книгам и примите старую веру, а не то погибнете». После ареста он оказался сначала в полиции, где служители благочиния пытались воздействовать на него своими методами – «насильно сыпали ему в рот табак». Полицейское приобщение к благам цивилизации и увещевания митрополита Гавриила результата не принесли; тогда за купца-раскольника взялись в Тайной экспедиции. Васильев показал, что, будучи грамотным, пристрастился к духовной литературе, и от чтения книг и размышлений о спасении души «начала болеть у него голова и ходил он как шальной», и однажды «как будто зачел его кто толкать» отправиться во дворец просвещать императрицу. Приказчики единодушно подтвердили, что их хозяин – человек «доброй, но дерется без всякой причины», по ночам действительно читал книги и «читая ж, иногда дирал на себе волосы».
Сам Степан Иванович Шешковский наставлял раскольника на путь истинный «словами Священного Писания»; в течение трех дней объяснял, «сколь он дурно делает, что не хочет ходить в церковь». Одумавшийся было подследственный вдруг заявил, что желает «остаться» в старой вере. Уговоры пришлось чередовать с угрозами: Степан Иванович кротко продолжал душеспасительные беседы (попутно, правда, пытаясь выяснить, кто купца «подучал»), а генерал-прокурор Вяземский объяснил упрямцу, как его «приударят в палки» в солдатах. Такой комбинированный метод воздействия принес результат: Васильев раскаялся и обещал регулярно посещать церковь. Императрица утвердила милостивый приговор: «от приключившейся ему от лишнего чтения книг задумчивости» отправить молодого человека на родину (он был крепостным одной из вотчин графа В. Г. Орлова) заниматься «хлебопашеством», а в дальнейшем ему из села никуда не отлучаться.[623] Тайная экспедиция, в отличие от Тайной канцелярии, прекращала преследование, если раскольники после «увещевания» вновь «обращались к церкви», и освобождала их из-под стражи.
Наряду со старообрядцами службу политического сыска интересовали и «верные чада» церкви – если имели неосторожность писать или произносить нечто, подпадающее под известные «первые два пункта». Так, важным преступником был признан ростовский митрополит Арсений Мацеевич, осмелившийся протестовать против задуманной Екатериной II секуляризации церковных и монастырских земель. 9 февраля 1763 года, совершая с собором ростовского духовенства праздничное богослужение с анафематствованием еретиков и врагов церкви, он сделал дополнения в утвержденный текст: «Вси насильствующии и обидящии святии Божии церкви и монастыри, отнимающе у них данная тем ‹…› имения ‹…› яко крайние врази Божии да будут прокляти». Кроме того, он отправил в Синод два послания, где указывал, что до Петра III все князья и цари признавали за церковью право собственности на вотчины, а реформа приведет к оскудению храмов и истреблению благочестия «не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних, благочестивыми и сынами церкви нарицающихся». Лично императрицу Арсений не задевал – напоминал только, что в свое время она в манифестах осуждала подобный замысел Петра III. Однако он был осужден и сослан, а позднее проходил по ведомству Тайной экспедиции как важный политический преступник.
Наряду с архиереем под следствие могли угодить безвестные прихожане, осмелившиеся усомниться в правоте синодского указа 1722 года, «чтоб о святой неделе прихоцкому их попу ходить по крестьянским дворам с одним крестом, а с образами не ходить», противоречившего обычаю. В селе Салково приходской священник Иван «на той святой неделе в понеделник после обедни и молебного пения, собрався со крестьяны, взяв из церкви крест, пришел на монастырский двор и пел молебен, а при том были и они крестьяне, и, отпев молебен, пошли к тому попу в дом, и у него обедали, и пили вино, и напились пьяни, пошли з двора». Напиваться указ не возбранял; но когда процессия проходила мимо сына старосты Ильи Кирилова, тот, сидя «на улице на бревнах пьян, говорил: „Государь де помутил, не велел ходить с образами по дворам“, и бранил ево государя матерны не однажды». В Преображенском приказе на допросе «с трех пыток» Кирилов повинился и попросил снисхождения, поскольку говорил те слова «спьяна и с серца». Последовал обычный приговор – бить кнутом, вырезать ноздри и сослать на вечную каторгу.[624]
Впрочем, к ответственности могли быть привлечены также представители других конфессий. В 1785 году симбирский и уфимский наместник генерал-лейтенант И. А. Игельстром доложил в Тайную экспедицию о двух татарских муллах, Джага-Фере и Абдрахиме, которые «возбуждали фанатизм в магометанах против русских»: один «совращал» правоверных «от настоящего магометанского закона», другой «внушал отвращение к российской нации и войску» и заставлял своих учеников стрелять из луков в изображения российских солдат. За разжигание, говоря современным языком, межнациональной розни их повелено было судить на месте.[625]
Собственно же дела церковные сыскное ведомство не интересовали. Даже когда прапорщик Василий Иванов (выезжий персидский «поручик», крестившийся на русской службе) в 1744 году прямо перед образами заявил: «Тфу мне етот Бог» – и назвал христианскую веру «проклятой», его дело просто передали из Тайной канцелярии «следовать в духовной команде».[626] Однако в 1734 году ученый вологодский епископ Афанасий Кондоиди должен был оправдываться именно перед Тайной канцелярией, до которой дошло, что владыка разрешил обвенчать двух дворовых людей в Великий пост. Афанасий почтительно объяснил: в архиерейском доме он обнаружил двух «умиравших гладом» колодников, дворовых Степана Васильева и Авдотью Петрову, и спешно их повенчал, чтобы «не померли без совершенного покаяния, ибо они несколько времяни между собою жили блудно и прижили младенца мужеска полу».[627] Из доклада епископа, между прочим, следовало, что духовное ведомство по части содержания заключенных мало чем уступало светским «казаматам». Рядовое духовенство видело в службе Ушакова управу на грозных владык: обидевшийся на своего начальника за несправедливый, по его мнению, перевод в другой храм, дьякон Савва Никитин в 1744 году не только бранил епископа «по матерны», но и кричал, что «архиерея надобно взять в Тайную канцелярию».[628]
Служба политического сыска интересовалась также колдовством и прочими связями с потусторонними силами – опять-таки постольку, поскольку это касалось государственной безопасности, в первую очередь здоровья монарха и его семейства.
В 1719 году беглый рекрут Леон Федоров донес на курского помещика Антона Мозалевского, который «ворожит, шепчет и бобами разводит, угадывает верст за тысячею и болши, что делаетца, и знает про государя, когда будет или не будет удача на боях против неприятеля». Предсказателя не нашли, а потому доставили в Преображенский приказ всех курских Мозалевских, но так ничего и не обнаружили. В 1721 году подьячий Яхонтов и рассыльщик Ларионов обвинили дьяка Василия Васильева в том, что он знает заговоры, «как царя сделать смирным, как малого ребенка»; следствие установило, что дьяк лишь гадал, какова будет реакция царя на «ведомости о переписке крестьян», и интересовался излечением «от порчи» своей жены. Доносчиков отправили на каторгу, а дьяк был освобожден.
Подобные дела показывают, что в начале XVIII века и беспокойные подданные, и власти не подвергали еще сомнению возможность «заколдовать» царя, причем эта вера была свойственна не только «подлым» людям, но и более просвещенным верхам общества. В 1730 году дочь гвардейского майора, противника «верховников» Григория Юсупова Прасковья попала в Тайную канцелярию, а оттуда в ссылку по доносу родного брата Бориса за то, что собиралась «склонить к себе на милость через волшебство» новую императрицу Анну Иоанновну.
В 1756 году в галерее Зимнего дворца перед приходом императрицы Елизаветы Петровны рассыпал «волшебные порошки» сын генерал-фельдмаршала и статс-дамы, камергер Петр Васильевич Салтыков, желавший снискать расположение государыни, получить деньги на оплату его карточных долгов и разрешение отбыть в отпуск. При Елизавете, которая, по замечанию Екатерины II, «верила в чары и колдовство», к магическим заговорам относились серьезно. Несмотря на заслуги родителей виновного, его «колдовство» было признано тяжким государственным преступлением, и он был отправлен в ссылку в Соловецкий монастырь «до кончины живота». С восшествием на престол Петра III Салтыкова освободили – разрешили проживать в своем имении «под крепким караулом».