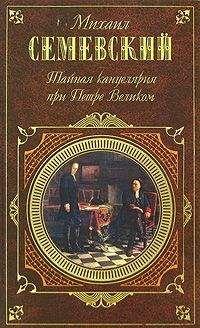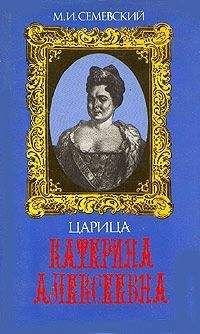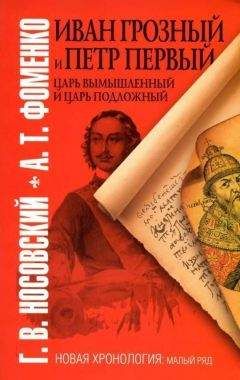Семеновский Иавнович - Тайная канцелярия при Петре Великом
Не надо забывать, что она была матерью двух сыновей, прижитых от своего «лапушки Петруши», не надо забывать, что она горячо любила мужа — о чем свидетельствуют ее письма и ее ревность к государю; малейшего же участия царицы в каких бы то ни было заговорах было бы достаточно для строгой казни; будь это участие — и Петр не стал бы церемониться, тратить время на убеждения жены удалиться «во свободу», на личные объяснения с нею, не стал бы делать ей послаблений, даже и на первое время, как-то: разрешение носить светское платье в монастыре и проч. Нет, натура Петра в таких случаях не сдерживалась ничем, никакими связями родства, никакими приличиями — доказательства этого всем известны.
Итак, не в мнимом и ничем не доказанном сочувствии царицы Авдотьи к делу противников ее державного супруга надо искать причину ссылки и заточенья: причина заключалась в том, что Авдотья Федоровна нимало не соответствовала идеалу Петра; они не сошлись характерами.
Мы представляем себе Авдотью Федоровну идеалом так называемых допетровских женщин, образцом цариц московских XVII века.
В самом деле, скромная, тихая, весьма набожная, она обвыклась с теремным заточением; она нянчится с малютками, читает церковные книги, беседует с толпой служанок, с боярынями и боярышнями, вышивает и шьет, сетует и печалится на ветреность мужа.
Жгучей, страстной, порывистой натуре Петра была нужна не такая женщина; ему нужна была не безмолвная, вельми целомудренная царица, одна из тех цариц, к которым, по словам Котошихина, не допускали иноземных послов из боязни, что государыня-царица не сказала бы какой-нибудь глупости «и от того пришло б самому царю в стыд».
«Она глупа!» — говаривал Петр о первой супруге. Следовательно, он прямо считал ее такой царицей, «от которой пришло б ему в стыд»; итак, нужна была женщина, взросшая не в русских понятиях. Ему нужна была такая подруга, которая бы умела не плакаться, не жаловаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом кстати отогнать от него черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду; такая, которая бы не только не чуждалась его пирушек, но сама бы страстно их любила, плясала б до упаду сил, ловко и бойко осушала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, крепкая мышцами, высокогрудая, со страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая — словом, женщина, не только по характеру, но даже и в физическом отношении не сходная с царицей Авдотьей, — вот что было идеалом Петра; его подруга должна была уметь утешить его и пляской, и красивым иноземным нарядом, и любезной ему немецкой иль голландской речью с каким-нибудь послом ли иноземным, с купцом ли заморским, иль иноземцем-ремесленником… Понятно, что такая женщина не могла встретиться Петру в семействах бояр в конце XVII столетия; в России он ее мог только найти в Немецкой слободе… Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу, она-то и сделалась последним поводом к заточению царицы.
И мы убеждены, вопреки Устрялову, что никаких более важных побуждений, кроме названных нами, не было со стороны Петра; но и их было достаточно для Петра: он отринул от своего ложа жену, даровавшую ему наследника престола.
Как бы то ни было, но дело, к великому соблазну народа, свершилось: царь развелся с женой и затем с необыкновенной энергией начал гасить огнь мятежный.
Кремлевские стены покрываются трупами, московские площади обливаются кровью стрельцов, восставших против «иноземческаго» царя, против бояр да князей, против немцев и немецких нововведений; почти все стрельцы героями умирали за старую Русь, погребаемую Петром, недаром же и доселе народ поет про стрелецкие казни:
Из кремля, кремля, крепка города,
От дворца, дворца государева
Что до самой ли Красной площади,
Пролегала тут широкая дорожка.
Что по той ли по широкой, по дороженьке,
Как ведут казнить тут добра молодца,
Добра молодца, большого боярина,
Что большого боярина, атамана стрелецкого,
За измену против царского величества.
Он идет ли молодец — не оступается,
Что быстро на всех людей — озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Пред ним идет грозен палач,
В руках несет остер топор;
А за ним идет отец и мать,
Отец и мать, молода жена;
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыданьи выговаривают:
«Ты дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю,
Принеси свою повинную,
Авось тебя государь-царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах».
Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямствует,
Отца-матери не слушает,
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
Привели его на Красную площадь,
Отрубили буйну голову,
Что по самы могучи плечи.
В продолжение одного октября месяца 1698 года в разные дни восемь длиннейших процессий стрельцов протянулись по улицам столицы: их везли и вели на кровавое побоище. Москва приобыкалась к подобным картинам:
Как из славного села Преображенского,
Что из того приказу государева,
Что вели казнить доброго молодца,
Что казнить его, — повесить;
Его белы руки и ноги скованы,
По правую руку идет страшен палач,
По левую идет его мать родная.
Но не легки еще были подобные картины для русского народа, не легко было и самому виновнику страшных зрелищ — царю Петру Алексеевичу. «От мысли о бунтовавших стрельцах, — говаривал он в это время, — гидр отечества, все уды во мне трепещут; помысля о том, заснуть не могу. Такова сия кровожаждущая саранча!»
По свидетельству одного из близких к нему людей, Петра дергали тогда по ночам такие конвульсии во всем теле, что он клал с собой в постель одного из денщиков и только держась за его плечи мог заснуть; судорожное подергиванье головы, шеи и лицевых мускулов в Петре усилилось со времени избиения стрельцов. «Юный фаворит» был с ним неразлучен; Петр сильно привязался к нему; он видел в Алексашке будущего надежнейшего и преданнейшего из своих слуг, ничем не связанного с ненавистной для него стариной; в Меншикове для Петра вырастало поколение его ставленников, его «птенцов»… От внимания народа не ускользнула эта любовь к юноше, и он поспешил объяснить ее, разумеется, на свой лад.
— К Алексашке Меншикову, — говорил, между прочим, московский гость Романов одному из своих знакомых, — государева милость такова, что никому таковой нет!
— Што ж, — отвечал знакомый, — молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему милостив.
— Тут Бога и не было; черт его с ним снес… вольно ему, что черт в своем озере возится, желает, что хочет!»[74]
В то время, как Петр скасовывает стрельцов, а в народе бродят самые черные истолкования нередко чистых чувств и симпатий Петра, обратимся к той, в обществе которой отдыхал Петр в это полное крови и ужаса время.
Постараемся проследить, с какого времени и при каких обстоятельствах возникло расположение Петра к Анне Монс; что это была за женщина, окончательно «остудившая» его к царице и ускорившая решение ее горькой участи, что это за женщина — которой, по свидетельству иноземцев, отдав сердце, Петр непременно бы отдал и корону всея России, если бы только на его любовь красавица ответила такою же страстью? Нечего и говорить, что вследствие всех этих обстоятельств Анна Ивановна выступает из ряда дюжинных любовниц великих персон и заслуживает нескольких страниц в очерках истории царствования Петра Великого.
На правом берегу Яузы, исстари, еще со времен Ивана Грозного, особою слободою поселены были иноземцы разных вер и наций; Немецкая слобода была как бы особым городом, резко выделявшимся как по своему внешнему виду, так и по образу жизни своих обитателей. Разоренный и уничтоженный «в нужное и прискорбное время», т. е. в начале XVII века, «Кукуй-городок» снова возник при царе Алексее.
Шотландцы, голландцы, англичане, французы и другие иноземцы, доселе раскинутые по всей Москве, водворены были теперь в новоиноземческой слободе. Отведенные под нее пустыри быстро покрылись прекрасными домиками, огородами и садами; над слободой возвысились иноземческие кирки, и жизнь совершенно особая потекла на Кукуе. Тут были люди всех наций, разных вероисповеданий, языков, «художеств и ремесл». Подле дома генерала подымалось жилище немецкого гостя, близ доктора — жил какой-нибудь виноторговец, далее — золотых дел мастер, плотник и другие ремесленники; генералы и полковники-иноземцы большею частию жили в слободе; из негоциантов здесь были заметнее других дома Кельдермана, «Московскаго государства повереннаго и чести достойнаго» Даниеля Гартмана, Яна Любса, золотых дел мастера Монса и другие. Тут же жили семейства покойных служилых иноземцев, как, например, генерала Гамильтона и других. Несмотря на сословные отличия и разность занятий, иноземцы, говоря вообще, жили незамкнуто в своих семьях или в небольших кружках. Жизнь общественная, при первых благоприятных для иноземцев обстоятельствах, получила в Кукуй-городке широкое развитие, особенно тогда, когда Московское правительство, в лице Петра, стало им покровительствовать. Почти всех хорошеньких дам и девиц, а красавицами изобиловала слобода, можно было встретить на любой вечеринке у какого-нибудь негоцианта. Вечерние сходки были беспрерывны; на них обыкновенно старики и важные иноземцы собирались в отдельном покое, дымили трубками да осушали стаканы, а молодежь без устали танцевала в соседних покоях; тут были и бесконечный польский, и гросфатер, и какой-то танец с поцелуями; пляски, зачастую начатые в 5 часов пополудни, оканчивались к 2 часам утра; устали и церемоний не знали; простота и свобода доходили до грубости; ссоры, драки между подгулявшими кукуйцами были ежедневно…