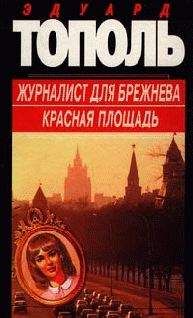Йозеф Томан - Сократ
Сократ говорил о блаженстве.
- Блаженство от мысли, что ты становишься лучше и приобретаешь лучших друзей, - тут взгляд его встретился со взглядом Платона, - есть одно из высочайших блаженств...
Он ценил дар Платона. Тот умеет в размеренной речи и в прозе одеть мысль столь прекрасной одеждой, что ее принимают с восторгом.
А я? - спрашивал себя Сократ. Я все только ходил по городу и расточительно разбрасывал свои мысли... Тому немножко, этому кое-что, в зависимости от того, куда сворачивал разговор; но сам я не записал ничего из моих размышлений о людях...
Седьмой десяток лет и угроза смерти застигли меня с пустыми руками. Я роздал себя - и нет никакой уверенности, останется ли для будущего хоть что-нибудь из всего того, что я познал. Я раздробил себя на сотни и сотни людей, но кто из них будет знать, какой я - нераздробленный? Всем отдавал я по кусочку себя. Но никому - себя целиком. Станет ли им Платон? Тот, который сейчас заявил, что покинет мои Афины, если не найдет в них для себя достаточно покоя и безопасности? Не покинет ли он и меня?
Сократ давно чувствовал, как Платон прямо-таки заглатывает его. Почти с болью ощутил он это и сегодня. И, глядя теперь на него своими выпуклыми глазами, Сократ задумался о себе самом.
На суде это было впервые, теперь появилось во второй раз: чувствую себя слабым и старым. И вот передо мной Платон. Молодой, жадный к познанию, готовящийся сдвинуть мир с мертвой точки. Сократ вспомнил неприязнь, а может быть, и пренебрежение Платона к Ксенофонту, Антисфену и Симону. Сократ задавал себе беспощадные вопросы.
Право, Платон ни в чем не уступает этим моим ученикам, и нет у него оснований для ревности. Но нет у него с ними и общего языка, и он дает им это почувствовать. Но если нет у него с ними взаимопонимания - хорошо ли он понимает меня?
Внезапно в глазах у него стало темно - темнее, чем в камере. Он перестал задавать себе вопросы. Знал: за то время, что ему осталось жить, ответа он уже не найдет.
Платон, заметив, что глаза Сократа слегка потускнели, сказал с одушевлением:
- Как я благодарен тебе, мой Сократ, что ты научил меня заниматься человеком! Так пристально, чуть ли не навязчиво, - до тебя никто этого не делал. - Плавным движением руки он повел в сторону Акрополя. - Ты, дорогой, высек некогда в камне богинь очарования, а потом уже долгие годы ваял не прелестных богинь, но людей душевного обаяния...
- Хорошо сказано, - похвалил его Критон.
- Только сказано, - заметил Сократ.
- Нет! Не только! - вспыхнул Аполлодор.
Но Платон еще не закончил похвалу Сократу.
- Ты отыскал душу человека, задвинутую глубоко, придавленную древними обычаями, жившую в небрежении и недооценке. Ты открыл красоту души - открыл ее и для моих папирусов...
Вошел тюремщик, внес светильник.
- Пора.
Критон поднялся первым:
- Да. Уходим.
Сократ - его лицо было теперь освещено - положил руку на плечо Платона:
- Велика красота души, если душа красива; но куда больше безобразие уродливой души. Есть люди, утверждающие: здесь ничему не поможешь, это рок, воля богов; вы же, мои милые, говорите всегда: помочь можно и тут добродетели можно научиться!
7
За годы, прожитые с Сократом, Ксантиппа изучила каждый его шаг, когда он выходил по утрам во дворик. И со дня его заточения стала ходить тропками мужа.
Освежившись студеной водой, Ксантиппа встречала просыпающееся солнце, затем подходила к Артемиде. Бывало, ее сердило, что муж целует колено богини, - особенно после того, как он сказал, что целует его не потому, что Артемида богиня, а потому, что она прекрасна. Сократ говаривал - с каждым новым днем надо приветствовать не только солнце, но и красоту.
Здоровье Ксантиппы не восстанавливалось. Неверными шагами ходила она среди мраморных глыб, придерживаясь за них руками, и, как, бывало, муж, разговаривала сама с собой.
Ветшает тут все без него. Камни утрачивают гладкость. Ограда обваливается, надо бы починить. Вот бы Лампрокл... Ах, этот бродяга убегает от деда, от ученья, все норовит в палестру с такими же, как он, сорванцами. Хочет, видишь ли, состязаться в беге... В безделье бы ему состязаться! Да, мало нам от него радости - быть может, возьмется за ум, когда отбудет военную службу... Что там за шум? Не несут ли вести от Сократа? Нет. Это к соседям...
Ксантиппе плохо дышалось. Но она не легла в постель, приготовленную для нее Мирто, села на пороге дома. На постели лежал белый праздничный пеплос. Ксантиппа взяла его в руки - к нему была приколота красивая янтарная пряжка.
Пеплос-то свой Мирто мне показала, а пряжку - нет. Кто мог подарить ей? Жизнь с Сократом была нелегкой, но все же куда прекраснее, чем теперь, когда его тут нет. Когда мне было столько лет, сколько теперь Мирто, я выходила замуж. Мирто молода. Красива. Скрывает от меня, что любит Сократа. Она внесла радость в наши будни, она работяща, помогает мне жить - но раздражает меня... Неужели не чувствовала она, как мне бывало больно, когда она за ужином гладила его руку? И он был так нежен с нею. Ко мне он не бывал так нежен. Или я уже забыла? Каждый день она ходит к нему в тюрьму и возвращается молчаливая, словно не хочет после того, как слышала его, слушать, что говорю ей я...
В калитку громко застучали. Какой грохот! Ксантиппа побрела к воротам, выглянула в маленькое окошко и, отодвигая засов, сердито проворчала:
- Вот стук подняла! Прямо будто мне по голове...
- Прости, Ксантиппа! Из Фив приехали Симмий с Кебетом... - радостно сообщила Мирто.
- Ну и что, сумасшедшая?
Мирто отвела Ксантиппу к постели, заставила лечь.
- Положить тебе мокрую тряпку на сердце? Дать отвару из кореньев, которые прислал тебе лекарь Эриксимах?
- Ничего я не хочу, - отрезала Ксантиппа. - Все равно мне ничто не поможет, и вы это отлично знаете. Вчера Эриксимах смотрел на меня с таким состраданием...
- Люди вылечиваются и от более тяжких болезней. Поправишься и ты, Ксантиппа, увидишь!
- Ладно, брось свои утешения, лучше подои козу.
Напившись парного молока, Ксантиппа спросила:
- Что это ты сказала про Симмия и Кебета? Бывало, приезжали они к нам, привозили мне славные вещицы - то гребень, то сандалии, то зеркальце полированного серебра... - Ксантиппа улыбнулась воспоминанию. - И жареных барашков привозили, паштеты, сыр, белый хлеб... Сократ всякий раз занимал их своими разглагольствованиями о неумеренности и чревоугодии, однако сам ел за двоих, только причмокивал... Всегда был себе на уме! Да, так что же Симмий и Кебет?
Мирто, волнуясь, передала, что сказал ей старый Архедем:
- Прискакали они не на ослах - на лошадях, подумай! И сразу к Критону. Теперь обсуждают с ним, что делать. Афиняне знают - высшая мера наказания Сократу присуждена несправедливо! И вот Симмий с Кебетом хотят добиться низшей меры! Они предложат за него крупный штраф! - Мирто прямо ликовала. Они его выкупят! Он вернется к нам!
- Если так, - сказала Ксантиппа, - загляни-ка в его комнату. Там, поди, паутины полно...
- Нет. Я убирала каждый день...
- А, так ты каждый день туда лазишь! - взъелась было Ксантиппа, да вдруг ласково закончила: - Мирто, милая, согрей воды, вымой мне голову... Будь добра!
Мирто вымыла ей голову, высушила на солнце, стала расчесывать.
- Какие у тебя чудесные волосы!
- По-твоему, Мирто, они и сейчас еще хороши? - И мечтательно добавила: - Сократ говаривал - у меня самые роскошные волосы во всех Афинах...
Напрасно скакали в Афины Симмий и Кебет. Никакая гора мин не могла изменить приговор гелиэи. А тем паче снизить столь резко - от высшей меры к низшей, то есть к денежному штрафу.
Симмий и Кебет не нашли в себе мужества явиться к учителю со злой вестью. Вместо тюрьмы отправились снова к Критону.
- Ужасно думать, как мы бессильны! - воскликнул Кебет.
- Я трепещу за Сократа, - выговорил Симмий.
- Я тоже, - подхватил Кебет.
Критон же произнес:
- Мой страх, друзья, уже так велик, что я перестал бояться.
- Что же ты хочешь сделать? - спросил Кебет.
- Для его спасения остается уже только одно средство - побег.
8
Отзвучали на Делосе музыка и пение. Кончилось празднество в честь Аполлона. Священная триера с паломниками возвращалась в Афины.
В помещении под палубой лежал на циновке танцор Тиндарей среди других танцоров, певцов, декламаторов и музыкантов. Он совершенно обессилел после стольких дней плясок, пиров, ночных похождений. Все тело его, смазанное жиром, чесалось от пота и пыли.
Он лежал, раскинув руки и ноги. На ладони его правой руки покоилась растрепанная голова юной флейтистки Анаксибии. На Делос они приплыли чужими. Возвращаются любовниками.
С неизменной регулярностью день сменялся ночью, но бодрствование не столь регулярно сменялось сном. Так было и в эту ночь. Не спало море, не спало звездное небо, не спали гребцы, бодрствовали и паломники.
Волны качали триеру. Играли ею пальцы моря.