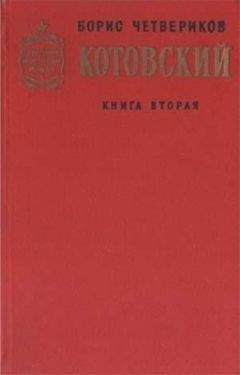Борис Четвериков - Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)
- Обзавелся-то я давно, еще в армии. Очень любил дневник, все-все туда записывал, еще Григорий Иванович, помню, удивлялся. А теперь забросил...
- Забросили? Нехорошо. Обязательно продолжайте, Михаил Петрович! Это надо.
- А вы, Иван Сергеевич?
- Как вам сказать. Купил тетрадку, красивую, в клеенчатой обложке. Вывел красивым почерком: "Тысяча девятьсот такой-то год". На этом кончилось.
- Вот видите!
- Ничего не вижу. И себя осуждаю: писать надо. Мы живем в чудесное время. Мы прокладываем первую борозду. Почетно? Почетно. И скажите, какая другая эпоха могла бы продемонстрировать подвиги не одного, не тысячи, а ста миллионов героев? Разве мы, современники, не обязаны рассказать об этом? Если сто миллионов героев, то о всех ста миллионах и рассказать! Разве они этого не заслуживают?
Для всех эти длинные рассуждения или отрывочные возгласы, то полные яда, то восторженные, были всего лишь случайными репликами писателя Крутоярова. А в нем происходил мучительный процесс, он сопоставлял, вникал, за частным случаем искал типическое, за плоским голым фактом высматривал глубину, социальный смысл.
Пигмей стреляет в исполина. Но ведь в этом-то и суть нашего времени. Изверился в своей правоте старый мир. У него дредноуты, пушки, воздушная флотилия... А правоты нет. Нет правоты, да и только. Ноль целых, ноль десятых. Вот почему он не брезгует последней дрянью. Берет в союзники ничтожество. Неужели он воображает, что, убив Котовского, сделает Красную Армию беспомощной? Нет, он не так глуп, чтобы думать это. Но что же ему остается?
Мысль Крутоярова работает дальше. Убийца Котовского не заслан из-за рубежа. Правда, он выходец оттуда, правда, он своего рода космополит. Но ведь жил среди нас? Ходил по улицам наших городов? Ел наш хлеб? Сидел рядом с нами в театре, в трамвае, на скамейке парка?.. Вывод: присмотрись к соседу. Только помни предостережение: будь осторожен, но без подозрительности. Наивно думать, что все враждебные нам люди отбыли в чужеземные края, остались и здесь. Кто заблуждался - и оттуда вернутся, вернулся же Бобровников. А эти, если бы и уехали, - не жалко.
Крутояров походит на шахтера, который глыба за глыбой откалывает пласты. Так он будет корпеть и корпеть, пока раздумья не воплотятся в героев, наделенных плотью и кровью, вкусами, мировоззрением, биографией. И тогда явится потребность написать. Но и это не все. Понадобится еще дать чертежи, построить здание будущего произведения, а здание художественного произведения, как и обыкновенное, не допускает просчетов. Нельзя один угол построить выше, другой ниже, так и крыши не возведешь и дом упадет.
Беспокойство владеет Крутояровым. Придет в комнату Маркова:
- Не помешаю?
- Что вы, Иван Сергеевич!
И тогда все пойдет по установившемуся шаблону. Крутояров начнет по своей привычке прохаживаться по комнате. Марков отложит книгу. Он понимает Крутоярова - тоже познал муки творчества, тоже пьет из этого родника. Каждая встреча с Крутояровым будоражит, наэлектризовывает, но при всем глубоком уважении к Крутоярову, при всем признании его таланта Марков идет своим путем, он и не может иначе, у него по-своему думается, пишется, говорится.
Вот Крутояров остановился. Космы его седеющих волос спутаны, брови сдвинуты. Он пришел не советоваться, но и не вещать. Просто ему необходим слушатель.
- Основной постулат энергетики, - гремит его голос, - при минимуме затрат максимум результатов. Согласны? Но не формула ли это вообще для человеческой деятельности? А? То-то и оно.
Марков говорит, улыбаясь:
- Я не о вас, просто хочу рассказать без связи с нашим разговором. Я сейчас читаю занятную статью о трудовом процессе писателей. Оказывается, Куприн напечатал "Молоха" еще в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Через шестнадцать лет, выпуская "Молоха" отдельной книгой, Куприн сделал правку и заменил: слово "гигантский" словом "огромный", "ритмические звуки" - "размеренными звуками", заменил слова "мистифицировать", "дебаты", "процессия"...
- Ерунда, - отрезал Крутояров. - Мистифицировать - это и есть мистифицировать, слово обжилось и нечего его чураться. Дебаты тоже. А впрочем... конечно, не следует сорить у себя в произведении. Это было бы неряшливо.
И вдруг расхохотался:
- А-а, понимаю, это вы меня за мой "постулат" прохватили? Ловко! Но ведь мы с вами не роман пишем, а так, разговариваем. Попробуйте стенографировать обыденные разговоры - мы все очень коряво говорим.
Снова хождение по комнате. Взад и вперед. Взад и вперед. И совсем неожиданно:
- Зря вы вчера в театр не пошли.
- Не мог.
- Почему вы не пишете пьесы? У нас бе-едно с пьесами! Режиссеры вопят. Вот вам сюжет. Дарю! Ставят пьесу о бюрократе, а бюрократ сидит в первом ряду, смотрит и аплодирует: "Актуально, говорит, дельно, говорит, правильно автор сигнализирует. Отреагировано! Будем, говорит, изживать на данном отрезке времени пятна прошлого!" И не догадывается, каналья, что он-то и есть это пятно!
- Это, скорее, годится для фельетона, - смеется Марков.
- О бюрократизме и Ленин предупреждал. А разве не страшная штука пошлость? Она просачивается, липнет. Замечено, что посредственность предприимчива и плодовита. Но у нее и еще свойство: скользит, никак не ухватишь... Но что я вам хотел сказать? Специально за этим шел и забыл... Ах да: помните, как осталась непреподнесенной книга Котовскому? Ничего не откладывайте. Поезжайте навестить Ольгу Петровну. Если у вас есть друзья, съездите к ним, проведайте. Не обижайтесь, что лезу с советами. Хороший тон рекомендует давать советы не раньше, чем тогда, когда к вам за ними обратятся. Но не могу утерпеть!
- Вы не оправдывайтесь, верно говорите. Никак не научусь владеть временем. Захлестывает - и ничего не успеваю. Вот узнаю адреса и поеду. Ничего тут сложного нет. Только наверняка опять не раскачаюсь. К Стрижову, на что он живет здесь же, на Фонтанке, полгода собирался! Тяжел на подъем. Нехорошая это черта, вы правы. Надо перевоспитать себя. Вот освобожусь немного и займусь собой. А знаете, какая главная причина моей медлительности? Творчество! Творчеством заболел! Никогда не предполагал, что к этому зелью можно так пристраститься. Хуже водки! Тянет и тянет. Хожу как сомнамбула. Оксана спросит: "О чем думаешь?" - "О Марианне". "Какой еще Марианне?" - "Ну, ты не знаешь, из рассказа..."
2
В сентябре Марков решил поехать повидаться с Ольгой Петровной, посмотреть на памятные места.
Ольга Петровна поселилась с детьми и сестрой в Киеве. Марков нашел ее спокойной, задумчивой. Она стойко переносила постигшее ее несчастье. На лице ее появилось выражение непреклонности. Взгляд был наполнен затаенной, запрятанной в себя болью и вместе с тем подчеркнутой гордостью. Нет, она не порадует врагов слезами и отчаянием!
Она по-прежнему сохраняла самые сердечные отношения с котовцами. К ней обращались. Ее слово было решающим при всех обстоятельствах.
Побывала она и в Ободовке. Встречали ее коммунары с почетом. И Ольга Петровна радовалась, что дело у них ладится, обещает разрастись.
Там, в Ободовке, доживал свои дни боевой конь Котовского Орлик. Его не заставляли работать. Он свободно разгуливал по всей территории коммуны и осторожно, одними губами брал кусочек сахару, если угощали.
Ольга Петровна и рада была видеть его, и в то же время это было для нее мучительно. Сердце болезненно сжималось, слезы навертывались на глаза. Уж очень живо все вспоминалось, никакого самообладания не хватало, чтобы и тут сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Зато маленький Гришутка радовался Орлику шумно, беспечно и очень любил его.
Марков быстро добрался в Киеве до безмятежного зеленого Десятинного переулка и сразу нашел квартиру Ольги Петровны на третьем этаже. Перед домом шелестели деревья, и, если выйдешь на балкон - на один из трех балконов в квартире, - оказываешься как в саду. Хорошее место. Улица, по которой никто никогда не ездит. Улица, на которой пасутся козы, как на лугу. Рядом - живописная церквушка. А когда Марков выспрашивал у прохожих дорогу, ему отвечали: "Десятинный переулок? Да то ж перед самой-самонькой Гончаркой! Туточки и идите".
Встретили Маркова как родного. Да и никто еще, кажется, не уходил из этого дома не обласканный, не накормленный, не получивший здесь и ночлег, и внимание.
Сразу начались рассказы о том, что сегодня сказал Гришутка, какие игрушки купили Леночке, как все ходили гулять в сквер и каким вкусным борщом угостит Ольга Петровна.
Во всех этих разговорах принимала участие и Елизавета Петровна. Она разделяла с семьей все радости и невзгоды, молча и безропотно выполняла все ей порученное, являясь как бы запасными руками Ольги Петровны. Надо ли доглядеть за детьми, надо ли вскипятить молоко или спутешествовать в булочную - все моментально делалось, без суеты, без канители. Вместе с тем она ухитрялась всегда оставаться незаметной, хотя и обязательной.